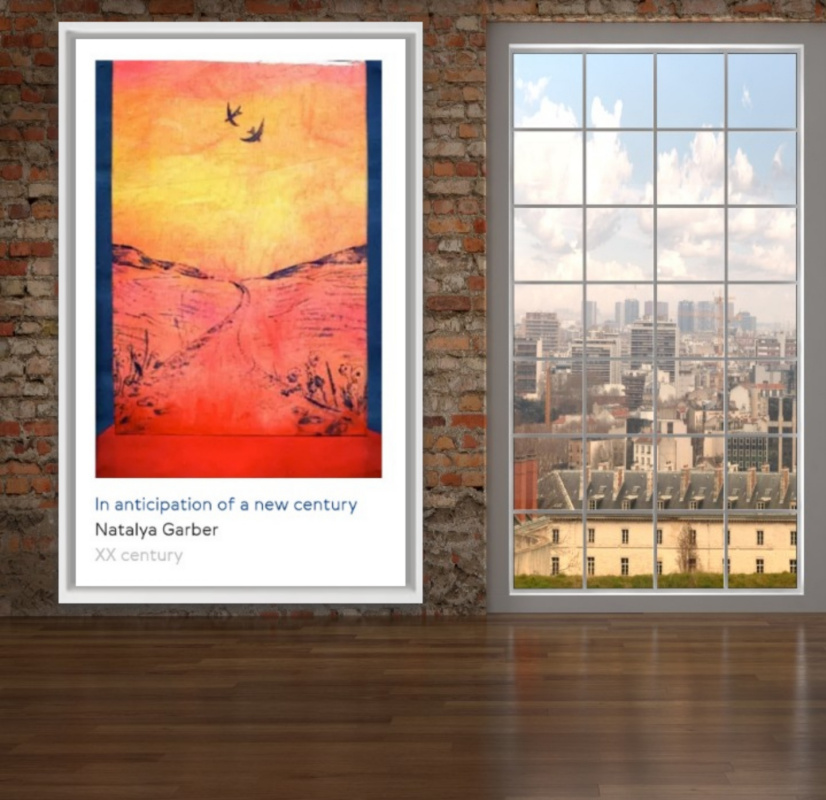Наталья Гарбер, 2010,
статья в журнале "Литературная учеба", №5-2010,
по материалам доклада на конференции
"Писатель как теоретик литературы" (ИМЛИ, Москва, 2010)
статья в журнале "Литературная учеба", №5-2010,
по материалам доклада на конференции
"Писатель как теоретик литературы" (ИМЛИ, Москва, 2010)
Антону Павловичу Чехову, классику-целителю мировой литературы, посвящается
Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь,
то перестань верить тому, что говорят и пишут,
а наблюдай сам и вникай.
Антон Павлович Чехов, из записных книжек
И понял я – поэзия не в слове.
А только в связи слов, вблизи и выше их.
Михаил Синельников, современный поэт,
лауреат премии «Глобус» за интернационализм творчества
Мечты и реальность российской жизни по Чехову
Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь,
то перестань верить тому, что говорят и пишут,
а наблюдай сам и вникай.
Антон Павлович Чехов, из записных книжек
И понял я – поэзия не в слове.
А только в связи слов, вблизи и выше их.
Михаил Синельников, современный поэт,
лауреат премии «Глобус» за интернационализм творчества
Мечты и реальность российской жизни по Чехову
Вся эта работа построена за записных книжках Чехова. Я читала их подробно лет пять назад, когда по итогам своих тренингов для медиагиганта Video International готовила книгу «Дао творческого карьериста» к публикации в ЭКСМО в 2005 году. Все предисловие к книге поначалу было испещрено цитатами из Чехова, и в конце концов наш текст стал общим, поэтому в этой статье мой текст включает закавыченные цитаты классика в "прямую" речь автора. Конечно, первыми я увидела те слова, что звали вперед:
«Что-нибудь одно: сиди в кузове или вылезай из кузова.
Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то.
Администрация делит на податных и привилегированных... Кто глупее и грязнее нас, те народ, а мы не народ. Но ни одно деление не годно, ибо все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное.
Идите и идите по лестнице, которая называется цивилизацией, прогрессом, культурой - идите, искренно рекомендую, но куда идти? Право, не знаю. Ради одной лестницы этой стоит жить.
Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее. Для настоящего человечество будет жить разве что в раю, оно всегда жило будущим».
Сложность этого последнего тезиса в том, что именно эта ориентация в будущее заставляет пренебрегать настоящим, в котором жизнь и происходит. А настоящее всегда обладает проблемами, сложностями и недостатками.
Чехов не слеп к жизни. Как гражданин, как врач и как писатель он видит происходящее. Поэтому рядом с надеждами в его дневнике возникает недовольство противодействующей переменам реальностью:
«Зачем Гамлету было хлопотать о видениях после смерти, когда самое жизнь посещают видения пострашнее?
Все новое и полезное народ ненавидит и презирает: он ненавидел и убивал врачей во время холеры, и он любит водку; по народной любви или ненависти можно судить о значении того, что любят или ненавидят.
Действующее лицо так неразвито, что не верится, что оно было в университете. Хотя ... университет развивает все способности, в том числе глупость.
Если Вы зовете вперед, то непременно указывайте направление, куда именно вперед. Согласитесь, что если, не указывая направления, выпалить этим словом одновременно в монаха и революционера, то они пойдут по совершенно различным дорогам.
За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу.
Консервативные люди оттого делают мало зла, что робки и не уверены в себе; делают же зло не консервативные, а злые люди».
Так что консерватизм оказывается еще не худшим злом. Он хотя бы сопровождается некоей ответственностью за свое слово и верностью себе. У нас в стране «порядочных в настоящем смысле можно встретить только среди людей, имеющих определенные консервативные или либеральные убеждения; так же называемые умеренные весьма склонны к наградам, пособиям, крестикам, прибавкам». То есть ориентированы исключительно на поощрения, а не на внутренние убеждения, ненадежны и лживы. И так отвратительны, что иногда кажется Чехову: «порочность - это мешок, с которым человек родится».
Людское рабство и лень как основа разрыва между неудовлетворительным настоящим и мечтаемым будущим
«Что-нибудь одно: сиди в кузове или вылезай из кузова.
Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то.
Администрация делит на податных и привилегированных... Кто глупее и грязнее нас, те народ, а мы не народ. Но ни одно деление не годно, ибо все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное.
Идите и идите по лестнице, которая называется цивилизацией, прогрессом, культурой - идите, искренно рекомендую, но куда идти? Право, не знаю. Ради одной лестницы этой стоит жить.
Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее. Для настоящего человечество будет жить разве что в раю, оно всегда жило будущим».
Сложность этого последнего тезиса в том, что именно эта ориентация в будущее заставляет пренебрегать настоящим, в котором жизнь и происходит. А настоящее всегда обладает проблемами, сложностями и недостатками.
Чехов не слеп к жизни. Как гражданин, как врач и как писатель он видит происходящее. Поэтому рядом с надеждами в его дневнике возникает недовольство противодействующей переменам реальностью:
«Зачем Гамлету было хлопотать о видениях после смерти, когда самое жизнь посещают видения пострашнее?
Все новое и полезное народ ненавидит и презирает: он ненавидел и убивал врачей во время холеры, и он любит водку; по народной любви или ненависти можно судить о значении того, что любят или ненавидят.
Действующее лицо так неразвито, что не верится, что оно было в университете. Хотя ... университет развивает все способности, в том числе глупость.
Если Вы зовете вперед, то непременно указывайте направление, куда именно вперед. Согласитесь, что если, не указывая направления, выпалить этим словом одновременно в монаха и революционера, то они пойдут по совершенно различным дорогам.
За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу.
Консервативные люди оттого делают мало зла, что робки и не уверены в себе; делают же зло не консервативные, а злые люди».
Так что консерватизм оказывается еще не худшим злом. Он хотя бы сопровождается некоей ответственностью за свое слово и верностью себе. У нас в стране «порядочных в настоящем смысле можно встретить только среди людей, имеющих определенные консервативные или либеральные убеждения; так же называемые умеренные весьма склонны к наградам, пособиям, крестикам, прибавкам». То есть ориентированы исключительно на поощрения, а не на внутренние убеждения, ненадежны и лживы. И так отвратительны, что иногда кажется Чехову: «порочность - это мешок, с которым человек родится».
Людское рабство и лень как основа разрыва между неудовлетворительным настоящим и мечтаемым будущим
Чехов не одинок в болезненном ощущении разрыва между желаемым будущим и несовершенным настоящим: все «человечество понимало историю как ряд битв, потому что до сих пор борьбу считало оно главным в жизни».
Меж тем борьба эта утомительна и заканчивается обычно выстраиванием довольно жестких иерархий. Выяснив это, а также то, что «противиться злу нельзя, а противиться добру можно», с возрастом мы начинаем принижать значение ценностей и искать компромиссов. «При нашей несерьезности, при неумении и непривычке большинства вглядываться и вдумываться в явления жизни, нигде, как у нас, так часто не говорят «Какая пошлость!» нигде не относятся так слегка, часто насмешливо, к чужим заслугам, к серьезным вопросам. И, с другой стороны, нигде так не давит авторитет, как у нас, русских, приниженных вековым рабством, боящихся свободы...»
Стремясь облегчить свою борьбу за существование, мы колеблемся между лицемерием и борьбой, и избегаем, по мере сил, внимания друг к другу, чтоб не обнажать необходимость диалога и решения накопившихся внутри и вовне проблем.
В итоге «мы переутомились от рабства и лицемерия. Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности, доставляет удовольствие только то, что не нужно». На фоне прекрасных мечтаний и не вполне уснувшей совести этот разрыв заставляет нас строить оправдания получившейся жизни – выходит картина мира, перекошенная под наш компромиссный образ жизни. Со временем мы сами начинаем сами верить в нее, и других убеждать.
«Тля ест растения, ржа металлы, а лжа душу. И у нас, несвободных людей всегда путаница понятий» - вкупе с нарастающим внутренним недовольством, решения коего мы ищем снаружи, а не внутри. В итоге, как и наша официальная медицина, мы лечим симптомы, а не источник проблем. Поэтому:
«Один ушел в попы, другой в духоборы, третий в философы, и это потому инстинктивно, что никто, ни один не хочет работать, как следует, с утра до ночи, не разгибаясь.
В клубе забаллотировали порядочного человека, потому что были все не в духе: испортили ему все будущее.
Когда у нас появляются дети, то все свои слабости, как-то: склонность к компромиссам, к мещанству – оправдываем так: «это для детей».
Теперь, когда порядочный рабочий человек относится критически к себе и своему делу, то ему говорят: нытик, бездельник, скучающий; когда же праздный пройдоха кричит, что надо дело делать, то ему аплодируют».
Печальный результат общих социальных трудов не так ли?
Писатели несовершенного русского общества
Меж тем борьба эта утомительна и заканчивается обычно выстраиванием довольно жестких иерархий. Выяснив это, а также то, что «противиться злу нельзя, а противиться добру можно», с возрастом мы начинаем принижать значение ценностей и искать компромиссов. «При нашей несерьезности, при неумении и непривычке большинства вглядываться и вдумываться в явления жизни, нигде, как у нас, так часто не говорят «Какая пошлость!» нигде не относятся так слегка, часто насмешливо, к чужим заслугам, к серьезным вопросам. И, с другой стороны, нигде так не давит авторитет, как у нас, русских, приниженных вековым рабством, боящихся свободы...»
Стремясь облегчить свою борьбу за существование, мы колеблемся между лицемерием и борьбой, и избегаем, по мере сил, внимания друг к другу, чтоб не обнажать необходимость диалога и решения накопившихся внутри и вовне проблем.
В итоге «мы переутомились от рабства и лицемерия. Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности, доставляет удовольствие только то, что не нужно». На фоне прекрасных мечтаний и не вполне уснувшей совести этот разрыв заставляет нас строить оправдания получившейся жизни – выходит картина мира, перекошенная под наш компромиссный образ жизни. Со временем мы сами начинаем сами верить в нее, и других убеждать.
«Тля ест растения, ржа металлы, а лжа душу. И у нас, несвободных людей всегда путаница понятий» - вкупе с нарастающим внутренним недовольством, решения коего мы ищем снаружи, а не внутри. В итоге, как и наша официальная медицина, мы лечим симптомы, а не источник проблем. Поэтому:
«Один ушел в попы, другой в духоборы, третий в философы, и это потому инстинктивно, что никто, ни один не хочет работать, как следует, с утра до ночи, не разгибаясь.
В клубе забаллотировали порядочного человека, потому что были все не в духе: испортили ему все будущее.
Когда у нас появляются дети, то все свои слабости, как-то: склонность к компромиссам, к мещанству – оправдываем так: «это для детей».
Теперь, когда порядочный рабочий человек относится критически к себе и своему делу, то ему говорят: нытик, бездельник, скучающий; когда же праздный пройдоха кричит, что надо дело делать, то ему аплодируют».
Печальный результат общих социальных трудов не так ли?
Писатели несовершенного русского общества
Что же делают писатели в таком мире? Куда ведут, к чему зовут, на что открывают людям глаза? Да, в общем, по Чехову, литераторы в массе своей еще хуже обывателей: «обыкновенные лицемеры прикидываются голубями, а политические и литературные - орлами. Но не смущайтесь их орлиным видом. Это не орлы, а крысы или собаки».
При этом они держатся самого высокого о себе мнения: «умрет какой-нибудь знаменитый астроном или политик, так они напечатают некролог всего с пять строк, а умри актер или литератор, так закатят некролог в два столбца, да еще первую страницу черной каймой обведут».
Да что после смерти – и при жизни-то творческие интеллигенты своим величием маются: «Боборыкин серьезно говорил, что он русский Мопассан. И Случевский тоже». Кто-то помнит сейчас, кто такие эти господа?
В любые времени, включая теперешние, полно литераторов, считающих себя «умом и честью нашей эпохи», несмотря на то, что деятельные, просвещенные и активные читатели вовсе с этим не согласны. Да что до того Боборыкиным?...
«Одни бранят свет, другие толпу, хвалят прошлое и порицают настоящее, кричат, что нет идеалов и т. п. Но ведь все это было и 20-30 лет назад, это отживающие формы, уже сослужившие свою службу. Кто повторяет их теперь, тот, значит, не молод и сам отживает; с прошлогоднею листвою гниют и те, кто живет в ней.
Я думал, и мне казалось, что мы некультурные, отживающие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениях, заплесневели совершенно. Пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем.
Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев. И вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем все мы вместе взятые.
Если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой так много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы, что с нею делать, и тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах в шпионстве и пристрастии к рублю и запугивать общество уверениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего, ничего!
А запугивать общество, как мы это делаем теперь, и будем делать, значит отнимать у него бодрость, то есть прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла. И я думал также, что прежде, чем заблестит заря новой жизни, мы обратимся в зловещих старух и стариков и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустим в нее клеветой».
Как же такое произошло? Как же превратились русские литераторы в закоснелых провинциалов жизни? Тогда – так же, как и теперь, - они делают это по одной схеме. Удушая новое. Тем самым лицемерием. Ханжеством. И властью.
Управление литературой и литературные мэтры
«Если человек присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, театра и живописи, надев вицмундиры! То же самое, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому больше ничего не остается, как стать чиновником».
Литература, театр – это рупор. Для писателя – мысли, для чиновника – идеологического давления. Посему, став чиновником от искусства, легко уже и весь мир сделать себе подобным. Ибо что в Чеховские времена, что в наши «все, чего не могут старики, запрещено или считается предосудительным». Литературный поиск, живое слово им чуждо. «Вещать новое и художественное свойственно наивным и чистым, вы же, рутинеры», - говорит Чехов и могу повторить я, - «захватили в свои руки власть в искусстве и считаете законным лишь то, что делаете вы, а остальное вы давите».
Давление это не только чиновничье и административное, но и образовательное, благо это «умный любит учиться, а дурак – учить». И выбирает роль учителя в футляре, чиновного проповедника, салонного критика.
«Что? писатели?» – говорит он: «Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем?»... И делает. Идеологически верно и политически выдержанно. «И сотни верст пустынной, однообразной выгоревшей степи не могут нагнать такой скуки, как один человек». Чего уж говорить о тоске, которую способны нагнать на потенциальных писателей, а также живых читателей и слушателей десятки, а то и сотни окололитературных зануд. «Всякий человек может написать пьесу, которую можно поставить», да не всякий сможет такую пьесу смотреть. А надобно заставить.
Заставляют с помощью науки и критики особого рода. «Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечания к нему», потому как примечания написаны могут быть чиновником от литературы или учителем в футляре, а сам Шекспир такое высказывал… поди еще разберись с гением.
Образование это – самое непрерывное. В школах и вузах отучили – закрепляют успех в салонах и гостиных: «приглашали на эти вечера знаменитостей, и было скучно, потому что талантливых людей в Москве мало и на всех вечерах участвовали всё одни и те же певцы и чтецы…» Весьма знакомая картина - по юбилеям наших шоу-менов.
В сообществе, где ищут не правды, а чинов и регалий, «тебе поверят, хоть лги, только говори с авторитетом». Так что критика в такой среде развивается под стать литературе: «"Лжедмитрий и актеры", "Тургенев и тигры" - такие статьи писать можно, и они пишутся...»
«N. N. - литератор-критик, обстоятельный, уверенный, очень либеральный, говорит о стихах; он признает, он снисходит». А Чехов, глядя на него, добавляет: «я вижу, что это бездарнейший человек, хоть и не читал его».
А вот и редактора почтенных СМИ: «заведующий иностранным отделом "Московских ведомостей", редактор журнала "Дело" и врач при московских императорских театрах». Интеллигентный Чехов наблюдает его и не выдерживает, пишет в записной книжке: «впечатление чрезвычайно глупого человека и гада».
Такая литературная жизнь - сладкий путь к чиновничьему месту. В ней почетно не писательское место, а руководящее, посему обыватель мечтает: «быть городским головой, потом вице-губернатором или директором департамента, потом товарищем министра. Воображает: напишу патриотическую статью, напечатаю в "Московских ведомостях", наверху прочтут ее и позовут меня управлять департаментом». Что ж, позвать, может, и не позовут, но если написать достаточно патриотический опус, то упомянутый выше редактор, вероятно, и напечатает… несмотря и вопреки литературным и этическим достоинствам текста.
Литературная карьера в чиновном мире
При этом они держатся самого высокого о себе мнения: «умрет какой-нибудь знаменитый астроном или политик, так они напечатают некролог всего с пять строк, а умри актер или литератор, так закатят некролог в два столбца, да еще первую страницу черной каймой обведут».
Да что после смерти – и при жизни-то творческие интеллигенты своим величием маются: «Боборыкин серьезно говорил, что он русский Мопассан. И Случевский тоже». Кто-то помнит сейчас, кто такие эти господа?
В любые времени, включая теперешние, полно литераторов, считающих себя «умом и честью нашей эпохи», несмотря на то, что деятельные, просвещенные и активные читатели вовсе с этим не согласны. Да что до того Боборыкиным?...
«Одни бранят свет, другие толпу, хвалят прошлое и порицают настоящее, кричат, что нет идеалов и т. п. Но ведь все это было и 20-30 лет назад, это отживающие формы, уже сослужившие свою службу. Кто повторяет их теперь, тот, значит, не молод и сам отживает; с прошлогоднею листвою гниют и те, кто живет в ней.
Я думал, и мне казалось, что мы некультурные, отживающие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениях, заплесневели совершенно. Пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем.
Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев. И вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем все мы вместе взятые.
Если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой так много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы, что с нею делать, и тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах в шпионстве и пристрастии к рублю и запугивать общество уверениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего, ничего!
А запугивать общество, как мы это делаем теперь, и будем делать, значит отнимать у него бодрость, то есть прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла. И я думал также, что прежде, чем заблестит заря новой жизни, мы обратимся в зловещих старух и стариков и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустим в нее клеветой».
Как же такое произошло? Как же превратились русские литераторы в закоснелых провинциалов жизни? Тогда – так же, как и теперь, - они делают это по одной схеме. Удушая новое. Тем самым лицемерием. Ханжеством. И властью.
Управление литературой и литературные мэтры
«Если человек присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, театра и живописи, надев вицмундиры! То же самое, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому больше ничего не остается, как стать чиновником».
Литература, театр – это рупор. Для писателя – мысли, для чиновника – идеологического давления. Посему, став чиновником от искусства, легко уже и весь мир сделать себе подобным. Ибо что в Чеховские времена, что в наши «все, чего не могут старики, запрещено или считается предосудительным». Литературный поиск, живое слово им чуждо. «Вещать новое и художественное свойственно наивным и чистым, вы же, рутинеры», - говорит Чехов и могу повторить я, - «захватили в свои руки власть в искусстве и считаете законным лишь то, что делаете вы, а остальное вы давите».
Давление это не только чиновничье и административное, но и образовательное, благо это «умный любит учиться, а дурак – учить». И выбирает роль учителя в футляре, чиновного проповедника, салонного критика.
«Что? писатели?» – говорит он: «Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем?»... И делает. Идеологически верно и политически выдержанно. «И сотни верст пустынной, однообразной выгоревшей степи не могут нагнать такой скуки, как один человек». Чего уж говорить о тоске, которую способны нагнать на потенциальных писателей, а также живых читателей и слушателей десятки, а то и сотни окололитературных зануд. «Всякий человек может написать пьесу, которую можно поставить», да не всякий сможет такую пьесу смотреть. А надобно заставить.
Заставляют с помощью науки и критики особого рода. «Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечания к нему», потому как примечания написаны могут быть чиновником от литературы или учителем в футляре, а сам Шекспир такое высказывал… поди еще разберись с гением.
Образование это – самое непрерывное. В школах и вузах отучили – закрепляют успех в салонах и гостиных: «приглашали на эти вечера знаменитостей, и было скучно, потому что талантливых людей в Москве мало и на всех вечерах участвовали всё одни и те же певцы и чтецы…» Весьма знакомая картина - по юбилеям наших шоу-менов.
В сообществе, где ищут не правды, а чинов и регалий, «тебе поверят, хоть лги, только говори с авторитетом». Так что критика в такой среде развивается под стать литературе: «"Лжедмитрий и актеры", "Тургенев и тигры" - такие статьи писать можно, и они пишутся...»
«N. N. - литератор-критик, обстоятельный, уверенный, очень либеральный, говорит о стихах; он признает, он снисходит». А Чехов, глядя на него, добавляет: «я вижу, что это бездарнейший человек, хоть и не читал его».
А вот и редактора почтенных СМИ: «заведующий иностранным отделом "Московских ведомостей", редактор журнала "Дело" и врач при московских императорских театрах». Интеллигентный Чехов наблюдает его и не выдерживает, пишет в записной книжке: «впечатление чрезвычайно глупого человека и гада».
Такая литературная жизнь - сладкий путь к чиновничьему месту. В ней почетно не писательское место, а руководящее, посему обыватель мечтает: «быть городским головой, потом вице-губернатором или директором департамента, потом товарищем министра. Воображает: напишу патриотическую статью, напечатаю в "Московских ведомостях", наверху прочтут ее и позовут меня управлять департаментом». Что ж, позвать, может, и не позовут, но если написать достаточно патриотический опус, то упомянутый выше редактор, вероятно, и напечатает… несмотря и вопреки литературным и этическим достоинствам текста.
Литературная карьера в чиновном мире
В такой литературной среде решительные люди занимают самое лучшее место без колебаний: «молодой человек мечтает посвятить себя литературе, пишет постоянно об этом отцу, в конце концов бросает службу, едет в Петербург и посвящает себя литературе - поступает в цензора».
Бывает и иначе. Планы прекрасные, но таланту нет: «женился, завел обстановку, купил письменный стол, убрал его, а писать нечего». А значительным быть хочется. Сидит, корпит - не выходит. «Бездарный, долго пишущий писатель важностью своей напоминает первосвященника». Вот и решение – не писать, а руководить теми, кто пишет. Стоять на раздаче, у кормушки, при властях.
Менее решительная молодежь, понимая искусство как средство идеологического, а не художественного воздействия, даже не идет, а просто скатывается в окололитературную чиновничью среду. Иногда - почти не замечая происходящего: «молодой, только что окончивший филолог приезжает домой в родной город. Его выбирают в церковные старосты. Он не верует, но исправно посещает службы, крестится около церквей и часовень, думая, что так нужно для народа, что в этом спасение России. Выбрали его в председатели земской управы, в почетные мировые судьи, пошли ордена, ряд медалей -- и не заметил, как исполнилось ему 45 лет, и он спохватился, что все время ломался, строил дурака, но уже переменять жизнь было поздно. Как-то во сне вдруг точно выстрел: "Что вы делаете?" - и вскочил весь в поту».
Окололитературная среда так успешно устроена чиновниками, что временами и с людьми без литературных намерений случаются «творческие» оказии: «инженер или врач Z. пришел к дяде редактору, увлекся, стал часто бывать, потом стал сотрудником, бросил мало-помалу свое дело; как-то идет из редакции ночью, вспомнил, схватил себя за голову - все погибло! Поседел. Потом вошло в привычку, весь обрюзг, стал издателем, почтенным, но неизвестным». В таком случае главное вовремя забыть, что делаешь…
Живые же люди, особенно талантливые, вызывают ненависть у таких заплесневевших, как метко называл их Чехов, чиновников от литературы. Обыватели чувствуют, что талантливые писатели забирают у них вожделенную возможность влияния на умы: «литература очевидно ела его, сосала его кровь, не давала ему спать; он любил ее страстно, но она не отвечала ему взаимностью. И когда утром я уезжал, он стоял в спальне, еще не одетый, и смотрел на меня с ненавистью - ведь я писатель!»
Хуже того – даже уважение к писателю имеет у окололитературной публики оттенок идеологический и для литературы разрушительный: «Приезжаю к знакомому, застаю ужин, много гостей. Очень весело мне болтать с соседками и пить вино. Настроение чудесное. Вдруг поднимается N. с важным лицом, точно прокурор, и произносит в честь мою тост. Чародей слова, в наше время, когда идеалы потускнели... сейте разумное, вечное... У меня такое чувство, точно я был накрыт раньше колпачком, а теперь колпачок сняли, точно в меня прицелились. После тоста молчание, чокались, молчание. Пропало веселье. «Вы теперь должны сказать», - говорит соседка. Но что я скажу? Я охотно бы пустил в него бутылкой. И спать ложусь с осадком в душе. "Смотрите, смотрите, господа, какой дурак сидит среди вас!"»
К кому же обратиться писателю, автору в таком мире? К читателю, к зрителю - к адресату произведения и собеседнику его создателя.
Маркетинг для современной литературы: для кого мы пишем?
Бывает и иначе. Планы прекрасные, но таланту нет: «женился, завел обстановку, купил письменный стол, убрал его, а писать нечего». А значительным быть хочется. Сидит, корпит - не выходит. «Бездарный, долго пишущий писатель важностью своей напоминает первосвященника». Вот и решение – не писать, а руководить теми, кто пишет. Стоять на раздаче, у кормушки, при властях.
Менее решительная молодежь, понимая искусство как средство идеологического, а не художественного воздействия, даже не идет, а просто скатывается в окололитературную чиновничью среду. Иногда - почти не замечая происходящего: «молодой, только что окончивший филолог приезжает домой в родной город. Его выбирают в церковные старосты. Он не верует, но исправно посещает службы, крестится около церквей и часовень, думая, что так нужно для народа, что в этом спасение России. Выбрали его в председатели земской управы, в почетные мировые судьи, пошли ордена, ряд медалей -- и не заметил, как исполнилось ему 45 лет, и он спохватился, что все время ломался, строил дурака, но уже переменять жизнь было поздно. Как-то во сне вдруг точно выстрел: "Что вы делаете?" - и вскочил весь в поту».
Окололитературная среда так успешно устроена чиновниками, что временами и с людьми без литературных намерений случаются «творческие» оказии: «инженер или врач Z. пришел к дяде редактору, увлекся, стал часто бывать, потом стал сотрудником, бросил мало-помалу свое дело; как-то идет из редакции ночью, вспомнил, схватил себя за голову - все погибло! Поседел. Потом вошло в привычку, весь обрюзг, стал издателем, почтенным, но неизвестным». В таком случае главное вовремя забыть, что делаешь…
Живые же люди, особенно талантливые, вызывают ненависть у таких заплесневевших, как метко называл их Чехов, чиновников от литературы. Обыватели чувствуют, что талантливые писатели забирают у них вожделенную возможность влияния на умы: «литература очевидно ела его, сосала его кровь, не давала ему спать; он любил ее страстно, но она не отвечала ему взаимностью. И когда утром я уезжал, он стоял в спальне, еще не одетый, и смотрел на меня с ненавистью - ведь я писатель!»
Хуже того – даже уважение к писателю имеет у окололитературной публики оттенок идеологический и для литературы разрушительный: «Приезжаю к знакомому, застаю ужин, много гостей. Очень весело мне болтать с соседками и пить вино. Настроение чудесное. Вдруг поднимается N. с важным лицом, точно прокурор, и произносит в честь мою тост. Чародей слова, в наше время, когда идеалы потускнели... сейте разумное, вечное... У меня такое чувство, точно я был накрыт раньше колпачком, а теперь колпачок сняли, точно в меня прицелились. После тоста молчание, чокались, молчание. Пропало веселье. «Вы теперь должны сказать», - говорит соседка. Но что я скажу? Я охотно бы пустил в него бутылкой. И спать ложусь с осадком в душе. "Смотрите, смотрите, господа, какой дурак сидит среди вас!"»
К кому же обратиться писателю, автору в таком мире? К читателю, к зрителю - к адресату произведения и собеседнику его создателя.
Маркетинг для современной литературы: для кого мы пишем?
Литература может обогнать свое время, но писатель живет в той читательской среде, которая ему досталась. Писать в стол можно всегда, однако в этом случае есть риск утратить произведение, просто потерять его.
Публикация – это шанс представить текст читателю и вечности. Но опубликовать можно то, что воспринимают современники. В первую очередь – читатели, начиная с редактора и кончая покупателем книги. До этих современников можно донести то, что они готовы воспринять. И каковы же они, эти люди?
Вот народ:
«Мужик, желая похвалить: "господин хороший, специальный".
Разговор с главным приказчиком:
- Правда ли, что дела наши идут дурно?
- Ни отнюдь».
Вот интеллигенция:
«Гувернантке поручено смотреть за библиотекой. Она на каждой книжке написала: "Эта книга принадлежит такому-то".
Барышня пишет: "мы будем жить невыносимо близко от вас".
Гимназист: это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности».
А вот и высший свет:
«Один действительный статский советник взглянул на красивый ландшафт и сказал: Какое чудесное отправление природы!
Ему кажется, что он понимает искусство и древний стиль. С видом знатока рассматривает картины, а антикварий в это время льстит его невежеству, презирает его и берет с него, сколько хочет. То же и на выставках, в магазинах... Иногда подолгу осматривает он картины, эстампы, безделушки и вдруг купит какую-нибудь дрянь, лубочную рамочку и выдаст себя».
Что можно донести, что написать этим людям? Как достучаться до них?
Пессимистический читательский сценарий для российского автора
Публикация – это шанс представить текст читателю и вечности. Но опубликовать можно то, что воспринимают современники. В первую очередь – читатели, начиная с редактора и кончая покупателем книги. До этих современников можно донести то, что они готовы воспринять. И каковы же они, эти люди?
Вот народ:
«Мужик, желая похвалить: "господин хороший, специальный".
Разговор с главным приказчиком:
- Правда ли, что дела наши идут дурно?
- Ни отнюдь».
Вот интеллигенция:
«Гувернантке поручено смотреть за библиотекой. Она на каждой книжке написала: "Эта книга принадлежит такому-то".
Барышня пишет: "мы будем жить невыносимо близко от вас".
Гимназист: это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности».
А вот и высший свет:
«Один действительный статский советник взглянул на красивый ландшафт и сказал: Какое чудесное отправление природы!
Ему кажется, что он понимает искусство и древний стиль. С видом знатока рассматривает картины, а антикварий в это время льстит его невежеству, презирает его и берет с него, сколько хочет. То же и на выставках, в магазинах... Иногда подолгу осматривает он картины, эстампы, безделушки и вдруг купит какую-нибудь дрянь, лубочную рамочку и выдаст себя».
Что можно донести, что написать этим людям? Как достучаться до них?
Пессимистический читательский сценарий для российского автора
Основной читатель во все времена – женщины.
Они, в массе, любят вот что: «Леночке в романах нравились герцоги и графы, но мелкоты она не любила. Любила главы, где любовь, но чистая, идеальная, а не чувственная. Описаний природы не любила, предпочитала разговоры. Читая начало, нетерпеливо заглядывала в конец. Не знала и не помнила имен авторов. Писала карандашом на полях: дивно! прелесть! или: и поделом!»
Не мудрен, ведь это матери учат дочерей: «дочь читает вслух соч. Марлит, мать слушает и изредка делает замечания насчет безнравственности автора и современного направления».
Хорошо, дамы не очень восприимчивы. Возможно, мужчины глубже, заинтересованней? Ан нет, и у них все то же: «Он любил Тургенева, певца девственной любви, чистоты, молодости, красивого слова и грустной русской природы. Но сам он любил девственную любовь не вблизи, а понаслышке, как нечто отвлеченное, существующее вне действительной жизни».
Больше того, они и литературное произведение почитают чем-то отвлеченным от жизни, а книгу - собственностью владельца, а не автора: «Сию книгу читал я, Углицкий мещанин, Иван Дмитриев Моховой, и нахожу ее из всех читанных мною книг самою наилудшею, в чем и приношу мою признательность Михаилу Иванычу Незнаеву, как владельцу оной бесценной книги».
Зачастую сами книги на полках – не источник размышлений, а всего лишь форма самолюбования: «В имении богатая библиотека, о которой говорят, но которой совсем не пользуются, варят жидкий кофе, который пить нельзя, в саду безвкусица, нет цветов,- и все это выдается за нечто якобы толстовское».
Взгляды у этих читателей критические: « Когда я перестал пить чай с калачом, то говорю: аппетита нет! Когда же перестал читать стихи или романы, то говорю: не то, не то!»
Чего ж хотят эти люди от авторов, какой литературы просят? А вот чего: «зачем изображают одних слабых, кислых и грешных? - спрашивают они. И каждый, советуя избрать только сильных, здоровых, интересных, разумеет самого себя».
Проще говоря, «публика в искусстве любит больше всего то, что банально и ей давно известно, к чему она привыкла… и литературу, которая ее не беспокоит…»
И не дай Бог еще захотят поучаствовать в творческом процессе: «Я не читала Спенсера. Расскажите мне его содержание. О чем он пишет? Я хочу написать для парижской выставки панно. Дайте мне сюжет», - пристает к Антону Павловичу «надоедливая дама».
Зрители используют искусство для развлечения, катарсисов избегают в искусстве так же, как и в жизни, потому «ходят часто в театр и читают толстые журналы - и все же злы и безнравственны». У автора вызывают раздражение, иногда предельное: «каждый идет в театр, чтобы, глядя на мою пьесу, научиться чему-нибудь тотчас же, почерпнуть какую-нибудь пользу, а я вам скажу: некогда мне возиться с этой сволочью».
Видимо, сильно временами допекали Антона Павловича читатели и слушатели, публика и литературные собратья…
Оптимистический сценарий для автора и читателя
Они, в массе, любят вот что: «Леночке в романах нравились герцоги и графы, но мелкоты она не любила. Любила главы, где любовь, но чистая, идеальная, а не чувственная. Описаний природы не любила, предпочитала разговоры. Читая начало, нетерпеливо заглядывала в конец. Не знала и не помнила имен авторов. Писала карандашом на полях: дивно! прелесть! или: и поделом!»
Не мудрен, ведь это матери учат дочерей: «дочь читает вслух соч. Марлит, мать слушает и изредка делает замечания насчет безнравственности автора и современного направления».
Хорошо, дамы не очень восприимчивы. Возможно, мужчины глубже, заинтересованней? Ан нет, и у них все то же: «Он любил Тургенева, певца девственной любви, чистоты, молодости, красивого слова и грустной русской природы. Но сам он любил девственную любовь не вблизи, а понаслышке, как нечто отвлеченное, существующее вне действительной жизни».
Больше того, они и литературное произведение почитают чем-то отвлеченным от жизни, а книгу - собственностью владельца, а не автора: «Сию книгу читал я, Углицкий мещанин, Иван Дмитриев Моховой, и нахожу ее из всех читанных мною книг самою наилудшею, в чем и приношу мою признательность Михаилу Иванычу Незнаеву, как владельцу оной бесценной книги».
Зачастую сами книги на полках – не источник размышлений, а всего лишь форма самолюбования: «В имении богатая библиотека, о которой говорят, но которой совсем не пользуются, варят жидкий кофе, который пить нельзя, в саду безвкусица, нет цветов,- и все это выдается за нечто якобы толстовское».
Взгляды у этих читателей критические: « Когда я перестал пить чай с калачом, то говорю: аппетита нет! Когда же перестал читать стихи или романы, то говорю: не то, не то!»
Чего ж хотят эти люди от авторов, какой литературы просят? А вот чего: «зачем изображают одних слабых, кислых и грешных? - спрашивают они. И каждый, советуя избрать только сильных, здоровых, интересных, разумеет самого себя».
Проще говоря, «публика в искусстве любит больше всего то, что банально и ей давно известно, к чему она привыкла… и литературу, которая ее не беспокоит…»
И не дай Бог еще захотят поучаствовать в творческом процессе: «Я не читала Спенсера. Расскажите мне его содержание. О чем он пишет? Я хочу написать для парижской выставки панно. Дайте мне сюжет», - пристает к Антону Павловичу «надоедливая дама».
Зрители используют искусство для развлечения, катарсисов избегают в искусстве так же, как и в жизни, потому «ходят часто в театр и читают толстые журналы - и все же злы и безнравственны». У автора вызывают раздражение, иногда предельное: «каждый идет в театр, чтобы, глядя на мою пьесу, научиться чему-нибудь тотчас же, почерпнуть какую-нибудь пользу, а я вам скажу: некогда мне возиться с этой сволочью».
Видимо, сильно временами допекали Антона Павловича читатели и слушатели, публика и литературные собратья…
Оптимистический сценарий для автора и читателя
Cone. Work for a veranda or summer house
June 2021
На что же рассчитывал Чехов как писатель и драматург?
И на что рассчитывать нам, современным авторам?
На то, что в маркетинге называется «целевая аудитория». У настоящей литературы она всегда невелика. Но как среде писателей есть люди служения, так и в массе читающей публики есть живые лица. Про одного из них Чехов с грустью писал, что тот «в жизни получал наслаждение только из двух источников: писатели и иногда природа». Природа, плод божественного творения, для литературного произведения – прекрасный сосед в душе человека.
А вот другой радостный пример: «Ивашин в библиотеке говорит: какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, нет мне дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела. Все бледнеет перед книгами». Случаются отрадные сцены и в кругу семейного чтения: «и оба читают запоем; он лежа на диване, она сидя в кресле и положив ноги на стул».
Выше мы говорили, что женщины составляют костяк читающей аудитории. Так вот, по Чехову, «очень многие русские интеллигентные женщины пишут свои письма прекрасным литературным языком». Несмотря на повальное снижение уровня грамотности в России в последние годы подтверждаю: для читающей, образованной женской публики этот факт по-прежнему верен. Пишут, и прекрасным языком - по электронной почте.
Хорошо читают и пишут в первую очередь о том, что трогает душу: «Она читала молитву, написанную на листке почтовой бумаги и сочиненную одним стариком, товарищем ее покойного мужа. Эта молитва была тем хороша, что в ней в сжатой форме и на обыкновенном разговорном языке говорилось обо всем, что нужно: и о счастии, и о детях, и о сомнениях, и об усопших... Ольга Ивановна молилась редко и всякий раз находила в этой молитве всё новые и новые прелести. Теперь ей особенно понравилось выражение, которого она раньше как-то не замечала: "Солнце светит, а в душе моей темно".»
Я думаю, это и есть центр литературного творчества. Не религиозность, нет. Вера. Вера как ощущение божественности мира и включенности в него человека.
Мне, как и Чехову, видится, что «без веры человек жить не может». Вера требует видения ясного и отношения любовного, а также каждодневного труда и самообразования. «Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей - страх и сомнения. Она доступна только высоким организациям».
Мир красив, и человек этого не видит в меру собственного несовершенства, неготовности поверить к гармонию. Поэтому «иногда при закате солнца видишь что-нибудь необыкновенное, чему не веришь потом, когда это же самое видишь на картине».
Проще всего поверить в красоту мира во сне, ибо там снимаются привычные барьеры разума. А когда вам, как Чехову, «снится, будто то, что считал действительностью, есть сон, а сон есть действительность», то можно прозреть. И увидеть скрытый, естественный и неостановимый рост жизни, который позволяет открыться переменам в себе и окружающем мире.
Ответ на классический вопрос «Что делать?» для новых поколений
И на что рассчитывать нам, современным авторам?
На то, что в маркетинге называется «целевая аудитория». У настоящей литературы она всегда невелика. Но как среде писателей есть люди служения, так и в массе читающей публики есть живые лица. Про одного из них Чехов с грустью писал, что тот «в жизни получал наслаждение только из двух источников: писатели и иногда природа». Природа, плод божественного творения, для литературного произведения – прекрасный сосед в душе человека.
А вот другой радостный пример: «Ивашин в библиотеке говорит: какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, нет мне дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела. Все бледнеет перед книгами». Случаются отрадные сцены и в кругу семейного чтения: «и оба читают запоем; он лежа на диване, она сидя в кресле и положив ноги на стул».
Выше мы говорили, что женщины составляют костяк читающей аудитории. Так вот, по Чехову, «очень многие русские интеллигентные женщины пишут свои письма прекрасным литературным языком». Несмотря на повальное снижение уровня грамотности в России в последние годы подтверждаю: для читающей, образованной женской публики этот факт по-прежнему верен. Пишут, и прекрасным языком - по электронной почте.
Хорошо читают и пишут в первую очередь о том, что трогает душу: «Она читала молитву, написанную на листке почтовой бумаги и сочиненную одним стариком, товарищем ее покойного мужа. Эта молитва была тем хороша, что в ней в сжатой форме и на обыкновенном разговорном языке говорилось обо всем, что нужно: и о счастии, и о детях, и о сомнениях, и об усопших... Ольга Ивановна молилась редко и всякий раз находила в этой молитве всё новые и новые прелести. Теперь ей особенно понравилось выражение, которого она раньше как-то не замечала: "Солнце светит, а в душе моей темно".»
Я думаю, это и есть центр литературного творчества. Не религиозность, нет. Вера. Вера как ощущение божественности мира и включенности в него человека.
Мне, как и Чехову, видится, что «без веры человек жить не может». Вера требует видения ясного и отношения любовного, а также каждодневного труда и самообразования. «Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей - страх и сомнения. Она доступна только высоким организациям».
Мир красив, и человек этого не видит в меру собственного несовершенства, неготовности поверить к гармонию. Поэтому «иногда при закате солнца видишь что-нибудь необыкновенное, чему не веришь потом, когда это же самое видишь на картине».
Проще всего поверить в красоту мира во сне, ибо там снимаются привычные барьеры разума. А когда вам, как Чехову, «снится, будто то, что считал действительностью, есть сон, а сон есть действительность», то можно прозреть. И увидеть скрытый, естественный и неостановимый рост жизни, который позволяет открыться переменам в себе и окружающем мире.
Ответ на классический вопрос «Что делать?» для новых поколений
Несколько лет назад, подводя итог годам работы в бизнес-консалтинге и планируя уйти в литературу, я задумалась о персональном бренде творческого человека и села писать книгу "Дао творческого карьериста". В поисках этических оснований я тогда обратилась к Чехову – писателю, славящемуся тонкой и глубокой этической позицией. А, кроме того, писателю, владеющему, как и я, помогающей профессией – в его случае профессией врача, в моем – педагога, консультанта, психолога – в общем, «лекаря душ» на личном и корпоративном уровне.
Я не стала смотреть Чеховские произведения, ибо знаю, что в любой литературе идеи «округлены» для читателя (зрителя) и лишены тех сложностей, решения коих автор еще не знает. А меня интересовали интегральные решения, для жизни в целом. И я перечитала записные книжки Чехова, ибо записки эти пишутся для себя и потому наиболее искренни в откровенном знании и незнании.
Перечитала и… не нашла для себя ответа на вопрос «что делать?». Не нашла.
А днями вдруг получила ответ в книге «Полуписьменные сочинения» Андрея Битова, писателя тонкого и проникнутого культурой, волнующегося об этическом пути литератора и правах человека (глава русского Пен-клуба). Битов пишет: «Чехов, конечно, маргинальная фигура. Строго говоря, Чехов никому не корреспондирует… Он рожден вопреки, а не после и не до, как Пушкин. Он – после Пушкина – как бы предлагает нам цивилизацию: живите по-человечески, меньше пейте, больше работайте, соблюдайте хоть какую гигиену, посадите дерево, подумайте об узниках – он обращается к нам, в тот опыт, которые он до конца предвидел в связи с началом XX века. Он последний великий русский писатель в том же смысле, как и Пушкин первый. Это такая рамка русской литературы, созданная за каких-то восемьдесят лет – Пушкин-Чехов: будьте, пожалуйста, людьми. Поэтому оба они еще ждут своего корреспондента по знаку (буквально имеется в виду по зодиакальному знаку, но, по сути, выходит – по знаку судьбы, - прим. НГ), может, в XXI веке. Когда, можно предположить, не будет русских проблем, будут общечеловеческие: пушкинско-чеховские.. Не только выжить людям – но выжить людьми Может, они еще будут прочитаны, эти двое.. ».
Я подумала, что через переход от русского к общечеловеческому, через объединение общемировых новаций с какой-то древней традицией, через нечто очень актуальное и очень вечное, должен быть восстановлен этот контакт. Нас и Чехова, нас и Пушкина.
Пушкиным я жила несколько лет после написания той самой книги и воспринимаю его как поэта жизни в целом, - это шире, чем поэзия этичности. Идея праздности, мучающая Чехова, например, Пушкину просто нравится. Однако в своей книге я искала тогда решения для деятельного пути. Мои читатели были бизнесменами и "бизнес-вуменами". Так что Чехов подходил больше, именно потому что он более «узкопрофессионален» как литератор, более, как мне кажется, нацелен на решение проблем делового человека, более к ним обращен.
Однако на поверку оказалось, что поэзия дела у Чехова дана как мечта: его слова зовут к переменам, ним, но не показывают пути: «Мы отдохнем, дядя Ваня, мы увидим небо в алмазах». Хотелось бы не после смерти, а до. Хотелось бы видеть, как. Не только с мучительным ракурсом врача, спасающего народ, который при случае убьет его со страху во время холеры.
Надо признать, что, не давая ответов, Чехов оказывается правдив относительно своего времени: он выражает не мечтаемую цельность, а тогдашний разлом. Не решение, а проблему. Не путь интеграции, а страдание без пути. Короче говоря, у Чехова я нашла отличную, глубокую проблематизацию. Но не решение. Будьте людьми – это мне показалось слишком общо. В XX веке одни люди (зачастую много работавшие и вполне соблюдавшие гигиену) расстреливали и душили в газовых камерах других людей, которые тоже много потрудились, а в итоге, безо всякой возможности соблюсти гигиену и, тем более, посадить дерево, в этих камерах умирали. Чиновники - люди, и поэты - люди. Гонители и стяжатели - люди, и гонимые и обираемые – тоже. Нет, человек в XXI веке звучит не гордо, а слишком общо.
Намек на решение, однако, в чеховском тексте нашелся. Сама форма драматургии предполагает, что зритель, выйдя из зала, должен сам, в своей жизни поискать решение «от противного», преодолевая проблемы, на которые указывал писатель. И, добавляя путем собственного опыта недостающие части к разрозненному «паззлу» реальности великого писателя, найти достойный путь.
В начале XX века этого, возможно, было достаточно. Но я писала книгу для активных людей в начале XXI века, для тех, кто уже напробовался разного и все еще не имел толковых решений. Между тем информационный поток и скорость жизни все нарастает, и вместе с ними стремительно растет цена неверно принятого решения. Так что мои читатели ждали от меня предложений. Проблемы были им известны и так. Читать о них они не стали бы. Обычное писательство было недостаточно для них.
Чехов, впрочем, уже и сам увидел этот процесс: «раньше человек, хороший, с правилами, любивший, чтобы его уважали, уходил в генералы, в попы, а теперь он идет в писатели, профессора...» И находил этот человек, что «на одного умного полагается тысяча глупых и на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает, и потому так туго подвигаются города и деревни. Большинство, масса, всегда останется глупой, всегда она будет заглушать; умный пусть бросит надежду воспитать и возвысить ее до себя; пусть лучше призовет на помощь материальную силу, пусть строит железные дороги, телеграфы, телефоны – и с этим он победит и подвинет вперед жизнь».
Поэтому уже в чеховское время, а, тем более, сегодня «молодежь не идет в литературу, и лучшая ее часть теперь работает на паровозах, на фабриках, в промышленных учреждениях; вся она ушла в индустрию, которая делает теперь громадные успехи».
Да, это практический путь к лучшей жизни. Только тогда уходили в индустрию промышленную, теперь - в индустрию торговую, развлекательную, компьютерную, в индустрию сотовой связи, и так далее. Дельные, активные люди уходят от «интеллигентных», а тем более творческих профессий ближе к «реальному» делу, которое лучше кормит семью, дает возможность влиять на мир и чувствовать себя «на коне». Насколько это возможно в нестабильном, быстроменяющемся и проходящем циклические кризисы современном мире.
Почему же деятельные люди не идут в писатели? Отчасти по экономическим причинам, а отчасти потому что писательство строится «сквозь» и «сверх» обычного жизненного опыта. Конечно, Чехов гений. Но не пройди Чехов школу каждодневной журналистики, не будь он врачом, разве были ль так пронзительны его произведения? Чтобы писать, надо видеть глубоко, чтобы видеть, надо трудиться, запуская руки в жизнь по самые локти и не боясь болезненных переживаний и усилий по созиданию радости.
Наличие основной, «неписательской» профессии позволяет писателю (если он способен не искать ложной славы) творить для искусства, а не заработка. Иначе же литература и театр занимаются тем, что угождают массовым вкусам, развлекая людей «эмоциональным массажем». Ради облегчения контакта с потребителем искусства и повышения продаж поэзия и художественные произведения, желающие быть успешно проданными при жизни автора, содержат не то, что нужно, а то, что хочется; они не идут дальше толпы и выражают только то, что хотят лучшие из толпы. Публика платит, развлекается и уходит из зала или закрывает книгу, не переменяя ничего в своей жизни. Всех все устраивает, только… радости нет. И развития тоже.
Но «эмоциональный массаж» без катарсиса надоедает – напряжение от него накапливается, а разрядки нет. И тогда, наевшись ложным весельем и потеряв к нему интерес, авторы и публика кидаются в другую крайность – уныние. Писатели обнаруживают, что тезис жизнь - это шествие в тюрьму продается не хуже балагана, и развивают сектор депрессивной литературы.
Нет, говорит Чехов, это тоже не дело. В мире рабства «литература по-настоящему должна учить, как бежать этого рабства, или обещать свободу, а она. Как там темно и сыро в тюрьме! ах, как тебе будет там скверно! ах, ты погибнешь!»
Ни развлечении, ни уныние не дают ни решений, ни тем более пути к счастью.
Что же до русского мира, то «если тюрьма есть попытка человечества заменить пространство временем, то Россия есть попытка Господа заменить время пространством», пишет Битов романе-странствии «Оглашенные».
Время у нас и вправду движется медленно, вязнет в просторах. А меж тем мне, вслед за Антоном Павловичем, так хочется, чтоб нашими трудами и молитвами это смутное время в России сменилось лучшими временами. И чтоб «грядущие поколения достигли счастья», и затем они спросили себя, «во имя чего жили их предки и во имя чего мучились». Любому достойному писателю хочется, чтоб те, кто придут на смену, опирались на его творческий труд по улучшению жизни.
Я с Чеховым не равняюсь, но по мере сил работаю на будущее. И в меру отпущенного мне таланта и творческих средств, хлопочу, чтобы изменить жизнь, «чтобы потомки были счастливы», ужасаясь тому, что, возможно, несмотря на все наши труды, «потомки скажут по обыкновению: прежде лучше было, теперешняя жизнь хуже прежней». И отвернутся от моей книги…
Древние решения для новых времен
Я не стала смотреть Чеховские произведения, ибо знаю, что в любой литературе идеи «округлены» для читателя (зрителя) и лишены тех сложностей, решения коих автор еще не знает. А меня интересовали интегральные решения, для жизни в целом. И я перечитала записные книжки Чехова, ибо записки эти пишутся для себя и потому наиболее искренни в откровенном знании и незнании.
Перечитала и… не нашла для себя ответа на вопрос «что делать?». Не нашла.
А днями вдруг получила ответ в книге «Полуписьменные сочинения» Андрея Битова, писателя тонкого и проникнутого культурой, волнующегося об этическом пути литератора и правах человека (глава русского Пен-клуба). Битов пишет: «Чехов, конечно, маргинальная фигура. Строго говоря, Чехов никому не корреспондирует… Он рожден вопреки, а не после и не до, как Пушкин. Он – после Пушкина – как бы предлагает нам цивилизацию: живите по-человечески, меньше пейте, больше работайте, соблюдайте хоть какую гигиену, посадите дерево, подумайте об узниках – он обращается к нам, в тот опыт, которые он до конца предвидел в связи с началом XX века. Он последний великий русский писатель в том же смысле, как и Пушкин первый. Это такая рамка русской литературы, созданная за каких-то восемьдесят лет – Пушкин-Чехов: будьте, пожалуйста, людьми. Поэтому оба они еще ждут своего корреспондента по знаку (буквально имеется в виду по зодиакальному знаку, но, по сути, выходит – по знаку судьбы, - прим. НГ), может, в XXI веке. Когда, можно предположить, не будет русских проблем, будут общечеловеческие: пушкинско-чеховские.. Не только выжить людям – но выжить людьми Может, они еще будут прочитаны, эти двое.. ».
Я подумала, что через переход от русского к общечеловеческому, через объединение общемировых новаций с какой-то древней традицией, через нечто очень актуальное и очень вечное, должен быть восстановлен этот контакт. Нас и Чехова, нас и Пушкина.
Пушкиным я жила несколько лет после написания той самой книги и воспринимаю его как поэта жизни в целом, - это шире, чем поэзия этичности. Идея праздности, мучающая Чехова, например, Пушкину просто нравится. Однако в своей книге я искала тогда решения для деятельного пути. Мои читатели были бизнесменами и "бизнес-вуменами". Так что Чехов подходил больше, именно потому что он более «узкопрофессионален» как литератор, более, как мне кажется, нацелен на решение проблем делового человека, более к ним обращен.
Однако на поверку оказалось, что поэзия дела у Чехова дана как мечта: его слова зовут к переменам, ним, но не показывают пути: «Мы отдохнем, дядя Ваня, мы увидим небо в алмазах». Хотелось бы не после смерти, а до. Хотелось бы видеть, как. Не только с мучительным ракурсом врача, спасающего народ, который при случае убьет его со страху во время холеры.
Надо признать, что, не давая ответов, Чехов оказывается правдив относительно своего времени: он выражает не мечтаемую цельность, а тогдашний разлом. Не решение, а проблему. Не путь интеграции, а страдание без пути. Короче говоря, у Чехова я нашла отличную, глубокую проблематизацию. Но не решение. Будьте людьми – это мне показалось слишком общо. В XX веке одни люди (зачастую много работавшие и вполне соблюдавшие гигиену) расстреливали и душили в газовых камерах других людей, которые тоже много потрудились, а в итоге, безо всякой возможности соблюсти гигиену и, тем более, посадить дерево, в этих камерах умирали. Чиновники - люди, и поэты - люди. Гонители и стяжатели - люди, и гонимые и обираемые – тоже. Нет, человек в XXI веке звучит не гордо, а слишком общо.
Намек на решение, однако, в чеховском тексте нашелся. Сама форма драматургии предполагает, что зритель, выйдя из зала, должен сам, в своей жизни поискать решение «от противного», преодолевая проблемы, на которые указывал писатель. И, добавляя путем собственного опыта недостающие части к разрозненному «паззлу» реальности великого писателя, найти достойный путь.
В начале XX века этого, возможно, было достаточно. Но я писала книгу для активных людей в начале XXI века, для тех, кто уже напробовался разного и все еще не имел толковых решений. Между тем информационный поток и скорость жизни все нарастает, и вместе с ними стремительно растет цена неверно принятого решения. Так что мои читатели ждали от меня предложений. Проблемы были им известны и так. Читать о них они не стали бы. Обычное писательство было недостаточно для них.
Чехов, впрочем, уже и сам увидел этот процесс: «раньше человек, хороший, с правилами, любивший, чтобы его уважали, уходил в генералы, в попы, а теперь он идет в писатели, профессора...» И находил этот человек, что «на одного умного полагается тысяча глупых и на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает, и потому так туго подвигаются города и деревни. Большинство, масса, всегда останется глупой, всегда она будет заглушать; умный пусть бросит надежду воспитать и возвысить ее до себя; пусть лучше призовет на помощь материальную силу, пусть строит железные дороги, телеграфы, телефоны – и с этим он победит и подвинет вперед жизнь».
Поэтому уже в чеховское время, а, тем более, сегодня «молодежь не идет в литературу, и лучшая ее часть теперь работает на паровозах, на фабриках, в промышленных учреждениях; вся она ушла в индустрию, которая делает теперь громадные успехи».
Да, это практический путь к лучшей жизни. Только тогда уходили в индустрию промышленную, теперь - в индустрию торговую, развлекательную, компьютерную, в индустрию сотовой связи, и так далее. Дельные, активные люди уходят от «интеллигентных», а тем более творческих профессий ближе к «реальному» делу, которое лучше кормит семью, дает возможность влиять на мир и чувствовать себя «на коне». Насколько это возможно в нестабильном, быстроменяющемся и проходящем циклические кризисы современном мире.
Почему же деятельные люди не идут в писатели? Отчасти по экономическим причинам, а отчасти потому что писательство строится «сквозь» и «сверх» обычного жизненного опыта. Конечно, Чехов гений. Но не пройди Чехов школу каждодневной журналистики, не будь он врачом, разве были ль так пронзительны его произведения? Чтобы писать, надо видеть глубоко, чтобы видеть, надо трудиться, запуская руки в жизнь по самые локти и не боясь болезненных переживаний и усилий по созиданию радости.
Наличие основной, «неписательской» профессии позволяет писателю (если он способен не искать ложной славы) творить для искусства, а не заработка. Иначе же литература и театр занимаются тем, что угождают массовым вкусам, развлекая людей «эмоциональным массажем». Ради облегчения контакта с потребителем искусства и повышения продаж поэзия и художественные произведения, желающие быть успешно проданными при жизни автора, содержат не то, что нужно, а то, что хочется; они не идут дальше толпы и выражают только то, что хотят лучшие из толпы. Публика платит, развлекается и уходит из зала или закрывает книгу, не переменяя ничего в своей жизни. Всех все устраивает, только… радости нет. И развития тоже.
Но «эмоциональный массаж» без катарсиса надоедает – напряжение от него накапливается, а разрядки нет. И тогда, наевшись ложным весельем и потеряв к нему интерес, авторы и публика кидаются в другую крайность – уныние. Писатели обнаруживают, что тезис жизнь - это шествие в тюрьму продается не хуже балагана, и развивают сектор депрессивной литературы.
Нет, говорит Чехов, это тоже не дело. В мире рабства «литература по-настоящему должна учить, как бежать этого рабства, или обещать свободу, а она. Как там темно и сыро в тюрьме! ах, как тебе будет там скверно! ах, ты погибнешь!»
Ни развлечении, ни уныние не дают ни решений, ни тем более пути к счастью.
Что же до русского мира, то «если тюрьма есть попытка человечества заменить пространство временем, то Россия есть попытка Господа заменить время пространством», пишет Битов романе-странствии «Оглашенные».
Время у нас и вправду движется медленно, вязнет в просторах. А меж тем мне, вслед за Антоном Павловичем, так хочется, чтоб нашими трудами и молитвами это смутное время в России сменилось лучшими временами. И чтоб «грядущие поколения достигли счастья», и затем они спросили себя, «во имя чего жили их предки и во имя чего мучились». Любому достойному писателю хочется, чтоб те, кто придут на смену, опирались на его творческий труд по улучшению жизни.
Я с Чеховым не равняюсь, но по мере сил работаю на будущее. И в меру отпущенного мне таланта и творческих средств, хлопочу, чтобы изменить жизнь, «чтобы потомки были счастливы», ужасаясь тому, что, возможно, несмотря на все наши труды, «потомки скажут по обыкновению: прежде лучше было, теперешняя жизнь хуже прежней». И отвернутся от моей книги…
Древние решения для новых времен
Итак, для осознания себя и строительства своего пути читателям моей книги нужно было нечто надежное и устойчивое. Что-то, на что можно опереться в принятии решений и построении отношений с людьми, в деловой практике и личной самореализации. По моей гипотезе, как уже сказано выше, решение должно было найтись не в творчестве отдельного писателя, а в некоей древней, но живой сегодня культуре, чьи взгляды должны быть обточены жизнью, как камни на песке. Решение должно было возникнуть на общемировом, вненациональном, глобальном уровне, сочетающем противоположные универсалии – древнее и новейшее, праздное и трудовое, постоянное и переменчивое начало человека.
Я полезла в описания традиционных культур и перед самым завершением книги, убрала все Чеховские цитаты, давшие мне пищу для размышлений, но не ответы на вопросы. И поставила в предисловие цитаты даосских мудрецов из древнекитайских книг «Гуань Инь-Цзы» и «Вкус корней»: «Естественный рост вещей нельзя остановить ни на миг. Обыкновенные люди видят то, что проявилось, но не могут заметить скрытого. Достойные люди видят сокрытое, но не умеют довериться переменам. Мудрый доверяет переменам, чтобы пребывать в неизменном… В Дао нет ничего от человека. Мудрый не говорит: «Это Дао, а то – не Дао». В Дао нет ничего от своего «я». Мудрый не различает пребывание в Дао и уклонение от него. В том, что Дао нет, залог того, что оно есть. В том, что мудрый не держится за Дао, залог того, что он его не утратит».
Вот оно: интеграция вместо противопоставления. Перемены и неизменность. Пребывание и уклонение. Я и другое. «И» вместо «или»: простое литературное упражнение дает новый взгляд на вещи. Восстанавливает целостный, взгляд, включающий несовершенного человека в гармонию природы, возвращает нас к естественному росту вещей, происходящему внутри и вовне собственной жизни.
Благодаря даосским цитатам я начала книгу с ощущения себя как неотъемлемой части мира и энергетического круговорота естественных сил жизни. Именно эта причастность к жизни мира позволяет нам стремиться к полному знанию и переживанию мира, в себе и вне себя. Мы содержим ее в себе и особенно ярко проявляем в настоящем искусстве. Поэтому, вероятно, Чехов пишет в своих записных книжках: «надо изображать жизнь не такою, какая она есть, и не такою, какая она должна быть, а такою, какая она в мечтах». Не держась за мечты, чтобы не утратить их, шагая по реальным камням под ногами, и доверяясь переменам, чтобы пребывать в неизменном, добавлю я от лица даосских мудрецов.
Более того, добавляют они в своих книгах, при таком отношении «беды и радости притираются друг к другу. Когда они притрутся без остатка, родится счастье, и такое счастье будет нерушимым. Сомнение и вера друг друга поправляют. Когда они полностью поправят друг друга, появится знание, и такое знание будет полным».
И снова «и» вместо «или»: беда и радость, сомнение и вера, знание и счастье. Именно разрозненность сегодняшней жизни и мечтаний, именно это разрывающее ткань времени «или» лишает чеховские произведения ощущения гармонии мира. С другой стороны, вероятно, именно это «или» делает его таким блистательным драматургом, ибо сцена требует конфликта, порождающего действие. Однако я выбираю «и», потому что оно дает путь к счастью, к которому мы с Чеховым страстно в своем творчестве – каждый в меру таланта. Это «и» - порождение веры. В человека и силу, порождающую наш мир. Эта вера и есть путь к счастью.
Вера и любовь как основа литературы
Я полезла в описания традиционных культур и перед самым завершением книги, убрала все Чеховские цитаты, давшие мне пищу для размышлений, но не ответы на вопросы. И поставила в предисловие цитаты даосских мудрецов из древнекитайских книг «Гуань Инь-Цзы» и «Вкус корней»: «Естественный рост вещей нельзя остановить ни на миг. Обыкновенные люди видят то, что проявилось, но не могут заметить скрытого. Достойные люди видят сокрытое, но не умеют довериться переменам. Мудрый доверяет переменам, чтобы пребывать в неизменном… В Дао нет ничего от человека. Мудрый не говорит: «Это Дао, а то – не Дао». В Дао нет ничего от своего «я». Мудрый не различает пребывание в Дао и уклонение от него. В том, что Дао нет, залог того, что оно есть. В том, что мудрый не держится за Дао, залог того, что он его не утратит».
Вот оно: интеграция вместо противопоставления. Перемены и неизменность. Пребывание и уклонение. Я и другое. «И» вместо «или»: простое литературное упражнение дает новый взгляд на вещи. Восстанавливает целостный, взгляд, включающий несовершенного человека в гармонию природы, возвращает нас к естественному росту вещей, происходящему внутри и вовне собственной жизни.
Благодаря даосским цитатам я начала книгу с ощущения себя как неотъемлемой части мира и энергетического круговорота естественных сил жизни. Именно эта причастность к жизни мира позволяет нам стремиться к полному знанию и переживанию мира, в себе и вне себя. Мы содержим ее в себе и особенно ярко проявляем в настоящем искусстве. Поэтому, вероятно, Чехов пишет в своих записных книжках: «надо изображать жизнь не такою, какая она есть, и не такою, какая она должна быть, а такою, какая она в мечтах». Не держась за мечты, чтобы не утратить их, шагая по реальным камням под ногами, и доверяясь переменам, чтобы пребывать в неизменном, добавлю я от лица даосских мудрецов.
Более того, добавляют они в своих книгах, при таком отношении «беды и радости притираются друг к другу. Когда они притрутся без остатка, родится счастье, и такое счастье будет нерушимым. Сомнение и вера друг друга поправляют. Когда они полностью поправят друг друга, появится знание, и такое знание будет полным».
И снова «и» вместо «или»: беда и радость, сомнение и вера, знание и счастье. Именно разрозненность сегодняшней жизни и мечтаний, именно это разрывающее ткань времени «или» лишает чеховские произведения ощущения гармонии мира. С другой стороны, вероятно, именно это «или» делает его таким блистательным драматургом, ибо сцена требует конфликта, порождающего действие. Однако я выбираю «и», потому что оно дает путь к счастью, к которому мы с Чеховым страстно в своем творчестве – каждый в меру таланта. Это «и» - порождение веры. В человека и силу, порождающую наш мир. Эта вера и есть путь к счастью.
Вера и любовь как основа литературы
Говоря о необходимости веры для счастья, я веду речь, конечно, не о ритуале хождения в церковь, а о том, «между "есть бог" и "нет бога" лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало».
Знание это приходит через труд «промышленный», созидающий, о котором сказано выше, и через труд внутренний, духовный. Сложность первого обоих - в малости человеческих сил и одиночестве, обретаемом в толпе каждым мыслящим и оригинальным существом. Это одиночество – этап, похожий на привыкание глаз к свету после тьмы. Этап, после которого глаз начинает различать «своих» среди окружающих: «чудаки казались ему прежде больными, а теперь он считает нормальным, что это нормальное состояние для человека - быть чудаком». Многие знания - многие печали, говорит Библия, и в периоды тягот и перемен, когда сложно прозревать красоту мира, человек бывает «чем культурнее, тем несчастнее». Однако у него «бывают очи отверзты во время неудач».
И когда темнота труда, совершенного с открытой душой, становится, по меркам Всевышнего, достаточно, то случается примерно такое: «Прошло уже 5 лет. Он, Терехов, понял на Сахалине, что главное - возноситься к богу, а как возноситься - не все ли равно?»
Переход этого личного пути к общему благу происходит через умение делиться обретенным: «сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать». Конечно, в то же время чиновник «умный говорит: "это ложь, но так как народ жить без этой лжи не может, так как она исторически освящена, то искоренять сразу ее опасно; пусть она существует пока, лишь с некоторыми поправками". А гений: "это ложь, стало быть, это не должно существовать".»
Все гениальное, как мы знаем, просто. «Беда в том, что самые простые вопросы мы стараемся решать хитро, а потому и делаем их необыкновенно сложными. Нужно искать простое решение. Прав тот, кто искренен». То есть гений, чего уж там гадать.
Как же подняться на такую высоту созидания перемен нам, простым смертным? Да через веру: «Русскому в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей», - писал Чехов: «но почему же в жизни хватает он так невысоко?»
Мне кажется, что России, этому «колоссу на глиняных ногах», не хватает силы движения, которая помогает идти вперед. И вместо крика «Россия, вперед!» нам нужны мудрые старцы-целители, способные поднять Илью Муромца с печи, на коей он пролежал уже не 33, а все 33 сотни лет. Вдохновляющей, искренней цели в сердце, веры в собственную силу и воздуха внутренней свободы нам не хватает. Рабство и чиновнический дух, так метко описанные Чеховым, душат нас и по сей день. И это не заморская зараза западного культурного влияния, это собственные плоды нашей слабости и неготовности созидать, работая как следует, с утра до ночи, не разгибаясь. Мы все еще чаще утомляемся от рабства и лицемерия, чем от созидательного труда, озаренного верой и терпением.
Воплощение мечты – это всегда тяжкий труд, постоянно натыкающийся на несовершенство человеческого общества. Но ведь «любить непременно чистых - это эгоизм». Это как мужчине «искать в женщине того, чего в нем самом нет». Потому что такое отношение – «не любовь, а обожание». Потребление вместо душевного труда над собой, зависимость, а не интеграция, противопоставляющее «или» вместо объединяющего «и». Поэтому, пишет Чехов, «любить надо равных себе».
Захочешь любить более высоких духом и прекрасных, более талантливых и совершенных – возвышайся над собой теперешним. И когда преуспеешь, то и равные тебе станут выше: те, что рядом, возвысятся, и новые придут. Так что всегда путь наверх – в лучшую жизнь, лучшее сообщество, лучшие переживания, - начинается с выдавливания из себя раба и самосовершенствования, а не сетования на мир. Ибо мир мы видим своими глазами. Совершенствуя способность любить, совершенствуем и видение.
Ибо «когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить… То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть». Учась любить, мы совершенствуем и себя.
Личное и общественное счастье как плод любви и веры
Знание это приходит через труд «промышленный», созидающий, о котором сказано выше, и через труд внутренний, духовный. Сложность первого обоих - в малости человеческих сил и одиночестве, обретаемом в толпе каждым мыслящим и оригинальным существом. Это одиночество – этап, похожий на привыкание глаз к свету после тьмы. Этап, после которого глаз начинает различать «своих» среди окружающих: «чудаки казались ему прежде больными, а теперь он считает нормальным, что это нормальное состояние для человека - быть чудаком». Многие знания - многие печали, говорит Библия, и в периоды тягот и перемен, когда сложно прозревать красоту мира, человек бывает «чем культурнее, тем несчастнее». Однако у него «бывают очи отверзты во время неудач».
И когда темнота труда, совершенного с открытой душой, становится, по меркам Всевышнего, достаточно, то случается примерно такое: «Прошло уже 5 лет. Он, Терехов, понял на Сахалине, что главное - возноситься к богу, а как возноситься - не все ли равно?»
Переход этого личного пути к общему благу происходит через умение делиться обретенным: «сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать». Конечно, в то же время чиновник «умный говорит: "это ложь, но так как народ жить без этой лжи не может, так как она исторически освящена, то искоренять сразу ее опасно; пусть она существует пока, лишь с некоторыми поправками". А гений: "это ложь, стало быть, это не должно существовать".»
Все гениальное, как мы знаем, просто. «Беда в том, что самые простые вопросы мы стараемся решать хитро, а потому и делаем их необыкновенно сложными. Нужно искать простое решение. Прав тот, кто искренен». То есть гений, чего уж там гадать.
Как же подняться на такую высоту созидания перемен нам, простым смертным? Да через веру: «Русскому в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей», - писал Чехов: «но почему же в жизни хватает он так невысоко?»
Мне кажется, что России, этому «колоссу на глиняных ногах», не хватает силы движения, которая помогает идти вперед. И вместо крика «Россия, вперед!» нам нужны мудрые старцы-целители, способные поднять Илью Муромца с печи, на коей он пролежал уже не 33, а все 33 сотни лет. Вдохновляющей, искренней цели в сердце, веры в собственную силу и воздуха внутренней свободы нам не хватает. Рабство и чиновнический дух, так метко описанные Чеховым, душат нас и по сей день. И это не заморская зараза западного культурного влияния, это собственные плоды нашей слабости и неготовности созидать, работая как следует, с утра до ночи, не разгибаясь. Мы все еще чаще утомляемся от рабства и лицемерия, чем от созидательного труда, озаренного верой и терпением.
Воплощение мечты – это всегда тяжкий труд, постоянно натыкающийся на несовершенство человеческого общества. Но ведь «любить непременно чистых - это эгоизм». Это как мужчине «искать в женщине того, чего в нем самом нет». Потому что такое отношение – «не любовь, а обожание». Потребление вместо душевного труда над собой, зависимость, а не интеграция, противопоставляющее «или» вместо объединяющего «и». Поэтому, пишет Чехов, «любить надо равных себе».
Захочешь любить более высоких духом и прекрасных, более талантливых и совершенных – возвышайся над собой теперешним. И когда преуспеешь, то и равные тебе станут выше: те, что рядом, возвысятся, и новые придут. Так что всегда путь наверх – в лучшую жизнь, лучшее сообщество, лучшие переживания, - начинается с выдавливания из себя раба и самосовершенствования, а не сетования на мир. Ибо мир мы видим своими глазами. Совершенствуя способность любить, совершенствуем и видение.
Ибо «когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить… То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть». Учась любить, мы совершенствуем и себя.
Личное и общественное счастье как плод любви и веры
Человеку «для ощущения счастья обыкновенно требуется столько времени, сколько его нужно, чтобы завести часы»: надо всего лишь «быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». Основные ресурсы для этого находятся внутри человека - и постоянно доступны. Кроме, разве что, душа, но помыться и постирать для себя в деле обретения счастья – самая простая часть работы.
Самое сложное - разбудить разум и сердце, отодвинуть завесы, которыми сам и закрыл правду и красоту мира от себя. Увидеть и принять умом и сердцем себя и окружающих, ощутить живую связь всего с Богом. «Омыться» силой естественного течения вещей и божественной милости. И начать совершенствовать себя, обретая счастье по мере этого труда. Всего-то.
И что же делать с этим счастьем потом? Делиться с равными себе. Равными в чеховском смысле – в меру любви и созидательного труда по совершенствованию себя. Ибо только равным и может человек донести свои открытия.
Особенно этот процесс передачи обретенного важен для человека, способного значительно повлиять на других – писателя, бизнесмена, общественного деятеля, любой так называемой «фигуры влияния». Потому что формируя для людей образ будущего и призывая идти к нему, «надобно воспитывать в людях совесть и ясность ума. Ибо тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть». С любовью и верой, правдиво покажете, указывая путь и давая свободу выбора, и не отделяя себя от несовершенства мира. Ибо «чтобы решать вопросы о богатстве, смерти и пр., нужно сначала ставить эти вопросы правильно, а для этого нужна продолжительная умственная и душевная работа».
По мере того как каждодневно писатель, художник, просветитель делает эту работу, расширяется круг равных ему. И от того, что люди становятся лучше, и потому, что он начинает видеть в них их изначальную природу. И постепенно приходит «время, когда интеллигент и тебя, мужика, будет воспитывать и холить, как своего сына и свою дочь, и даст тебе науку и искусство, и не одни лишь крохи, как теперь». Пока же этого труда недостаточно, наш народ будет по-прежнему будет «раб, мясо для пушек».
Как же осуществить этот переход, как открыть свое зарешеченное сердце и затуманенный ум? Глазами ничего не увидишь, сказал тезка Чехова и великий гуманист Антуан де Сент-Экзюпери. Зорко одно лишь сердце, сказал он. Созерцая мир сердцем, писатели могут написать новые истории, достойные лучших традиций русской литературы, искренне и созидательно отвечающие на мучительные вопросы нашего времени и вдохновляющие людей на достойную жизнь.
Живой материал литературы 21 века
Самое сложное - разбудить разум и сердце, отодвинуть завесы, которыми сам и закрыл правду и красоту мира от себя. Увидеть и принять умом и сердцем себя и окружающих, ощутить живую связь всего с Богом. «Омыться» силой естественного течения вещей и божественной милости. И начать совершенствовать себя, обретая счастье по мере этого труда. Всего-то.
И что же делать с этим счастьем потом? Делиться с равными себе. Равными в чеховском смысле – в меру любви и созидательного труда по совершенствованию себя. Ибо только равным и может человек донести свои открытия.
Особенно этот процесс передачи обретенного важен для человека, способного значительно повлиять на других – писателя, бизнесмена, общественного деятеля, любой так называемой «фигуры влияния». Потому что формируя для людей образ будущего и призывая идти к нему, «надобно воспитывать в людях совесть и ясность ума. Ибо тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть». С любовью и верой, правдиво покажете, указывая путь и давая свободу выбора, и не отделяя себя от несовершенства мира. Ибо «чтобы решать вопросы о богатстве, смерти и пр., нужно сначала ставить эти вопросы правильно, а для этого нужна продолжительная умственная и душевная работа».
По мере того как каждодневно писатель, художник, просветитель делает эту работу, расширяется круг равных ему. И от того, что люди становятся лучше, и потому, что он начинает видеть в них их изначальную природу. И постепенно приходит «время, когда интеллигент и тебя, мужика, будет воспитывать и холить, как своего сына и свою дочь, и даст тебе науку и искусство, и не одни лишь крохи, как теперь». Пока же этого труда недостаточно, наш народ будет по-прежнему будет «раб, мясо для пушек».
Как же осуществить этот переход, как открыть свое зарешеченное сердце и затуманенный ум? Глазами ничего не увидишь, сказал тезка Чехова и великий гуманист Антуан де Сент-Экзюпери. Зорко одно лишь сердце, сказал он. Созерцая мир сердцем, писатели могут написать новые истории, достойные лучших традиций русской литературы, искренне и созидательно отвечающие на мучительные вопросы нашего времени и вдохновляющие людей на достойную жизнь.
Живой материал литературы 21 века
После падения советской империи весь мир стал миром бизнеса. Здесь идут основные перемены, порождаются главные проблемы, совершаются самые страшные ошибки. И здесь же затем, наконец, созидаются и внедряются самые сильные решения, формируя новые отношения людей по всему земному шару. Здесь, как мне кажется, сегодня находятся и основные темы современной литературы и искусство.
Интересно, что сами бизнесмены все больше интересуются литературой. Потому что склоняются к тому, что в ближайшем будущем компании продавать будут не просто продукты и услуги, а продукты и услуги «с историей». Люди хотят покупать нечто, влияющее на историю их жизни, заставляя объекты потребления работать на жизненные цели. И тут для бизнесов и их клиентов находится самая большая проблема нашего времени.
До сих пор главной историей бизнеса была такая: «потребляй больше самого лучшего - и будешь счастлив». Литература, искусство философия веками уже знают, что это ложный лозунг. Но людям в массе своей все невдомек, что «когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведет только к раздору, увеличивая неравенство людей». Вот, например, фрагмент из чеховского дневника: «когда живешь дома, в покое, то жизнь кажется обыкновенною, но едва вышел на улицу и стал наблюдать, расспрашивать, например, женщин, то жизнь - ужасна. Окрестности Патриарших прудов на вид тихи и мирны, но на самом деле жизнь в них – ад. И так ужасна, что даже не протестует».
За последние годы расслоение на богатых и бедных только усилилось. Поэтому для нравственного человека «счастье и радость жизни не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами». Кризис последних лет – уже с экономической стороны - показал и истинность этого сценария, и глубокую порочность идеи «счастье суть потребление». Лидеры общества потребления обрели богатство и стали… объектом изрядной ненависти окружающих. Их потерям массы радуются, их успехам – нет.
Именно об их счастье писал Чехов: «как порой невыносимы люди, которые счастливы, которым все удается…» Благополучные, но не трудящиеся душой люди становятся глухими и слепыми к тяготам других. Поэтому «за дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье». И снова философская чеховская цитата снова звучит как маркетинговое предупреждение о неизбежных кризисах общества потребления.
Сейчас мир наконец позволил себе осознать, что экономический коллапс суть следствие его собственного поведения – и изменением этого поведения и лечится. Деловой мир задумался о вопросах корпоративной социальной ответственности, и - вместе с государством -заговорил о долге богатых перед малоимущими, о долге пользующихся природными ресурсами перед экологией, о долге просветителей перед народом, о долге лидеров всех сортов - перед обществом, которое они ведут Бог весть куда…
Первые шаги на пути воплощения этого долга очень несовершенны – руководство и владельцы компаний ищут возможности нематериальной мотивации, активизируют волонтерское движение. Проще говоря, стараются заставить людей работать бесплатно «за идею», идеологически полезную для бизнеса, а затем использовать объединяющую силу милосердия для коммерческих целей. Узнаваемо, не так ли?
Однако, думаю, все уже настолько научены историей, что здоровые силы общества неизбежно начнут искать созидательные решения проблем справедливости. Решения эти нужны и по вертикали, для согласия имущих с менее имущими, властных с менее властными, и по горизонтали – для построения гражданского общества равных с равными. Равных в меру любви к миру, как сказано выше.
Истории 21 века: когда в человеке свободно действует его изначальная природа
Интересно, что сами бизнесмены все больше интересуются литературой. Потому что склоняются к тому, что в ближайшем будущем компании продавать будут не просто продукты и услуги, а продукты и услуги «с историей». Люди хотят покупать нечто, влияющее на историю их жизни, заставляя объекты потребления работать на жизненные цели. И тут для бизнесов и их клиентов находится самая большая проблема нашего времени.
До сих пор главной историей бизнеса была такая: «потребляй больше самого лучшего - и будешь счастлив». Литература, искусство философия веками уже знают, что это ложный лозунг. Но людям в массе своей все невдомек, что «когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведет только к раздору, увеличивая неравенство людей». Вот, например, фрагмент из чеховского дневника: «когда живешь дома, в покое, то жизнь кажется обыкновенною, но едва вышел на улицу и стал наблюдать, расспрашивать, например, женщин, то жизнь - ужасна. Окрестности Патриарших прудов на вид тихи и мирны, но на самом деле жизнь в них – ад. И так ужасна, что даже не протестует».
За последние годы расслоение на богатых и бедных только усилилось. Поэтому для нравственного человека «счастье и радость жизни не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами». Кризис последних лет – уже с экономической стороны - показал и истинность этого сценария, и глубокую порочность идеи «счастье суть потребление». Лидеры общества потребления обрели богатство и стали… объектом изрядной ненависти окружающих. Их потерям массы радуются, их успехам – нет.
Именно об их счастье писал Чехов: «как порой невыносимы люди, которые счастливы, которым все удается…» Благополучные, но не трудящиеся душой люди становятся глухими и слепыми к тяготам других. Поэтому «за дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье». И снова философская чеховская цитата снова звучит как маркетинговое предупреждение о неизбежных кризисах общества потребления.
Сейчас мир наконец позволил себе осознать, что экономический коллапс суть следствие его собственного поведения – и изменением этого поведения и лечится. Деловой мир задумался о вопросах корпоративной социальной ответственности, и - вместе с государством -заговорил о долге богатых перед малоимущими, о долге пользующихся природными ресурсами перед экологией, о долге просветителей перед народом, о долге лидеров всех сортов - перед обществом, которое они ведут Бог весть куда…
Первые шаги на пути воплощения этого долга очень несовершенны – руководство и владельцы компаний ищут возможности нематериальной мотивации, активизируют волонтерское движение. Проще говоря, стараются заставить людей работать бесплатно «за идею», идеологически полезную для бизнеса, а затем использовать объединяющую силу милосердия для коммерческих целей. Узнаваемо, не так ли?
Однако, думаю, все уже настолько научены историей, что здоровые силы общества неизбежно начнут искать созидательные решения проблем справедливости. Решения эти нужны и по вертикали, для согласия имущих с менее имущими, властных с менее властными, и по горизонтали – для построения гражданского общества равных с равными. Равных в меру любви к миру, как сказано выше.
Истории 21 века: когда в человеке свободно действует его изначальная природа
Какова роль писателей в этой работе? Рассказывать истории, показывающие человеку, каков он есть, и как ему стать лучше. Я думаю, вслед за Чеховым, что правильная история 21 века «должна быть историей не королей и битв, а идей». И людей. «Нет ничего такого, чего бы история не освящала». Особенно – официальная история, зачастую пропагандировавшая, что «простому человеку нужно только 3 аршина земли», а остальное отдававшая власть предержащим – чиновникам от государства, литературы, бизнеса… Тем, для кого счастье все еще суть потребление, несмотря на кризис экономический и духовный.
Однако, как метко отвечал на эту идею Чехов: три аршина нужно «не человеку, а трупу. Человеку нужен весь земной шар». Любому человеку. Любому живому, мыслящему, активному, созидательному человеку эпохи глобализации нужен весь земной шар: для поиска своего места на нем и для созидания лучшей жизни.
И обращаться с этим шаром и другими людьми каждый человек должен бережно и с любовью. Ибо счастье - это не личное потребление, а общее созидание. На всех уровнях. В первую очередь – на уровне простого, обычного, «маленького» человека.
Именно поэтому русская литература всегда была «литературой маленького человека», а не жизнеописанием лидера. Повествованием от людях, живущих внутри исторического процесса, а не царящих на его гребне. Писатель действует не пропагандой, а ясностью видения и состраданием – ибо «кто не может взять сердце читателя лаской, тот не возьмет и строгостью».
Может, именно из-за глобальности своего видения и глубокой веры, лучшие русские писатели рассказывали нам истории о людях, сильно переживающих происходящее в каждодневном труде, сквозь боли и радости, путем открытий и ошибок, силами любви и веры…
Может, поэтому так ужасно и разоблачительно выглядят в русской литературе все эти люди в футлярах, чиновники и помещики, скряги и стяжатели, манипуляторы и идеологи, отгородившиеся ради пустого личного покоя от тягот всеобщего пути… И не находящие даже и в этом покое ничего большего тех самых 3 аршин: «чиновник зажил особенной жизнью: на даче высокая труба, зеленые панталоны, синяя жилетка, выкрашенная собака, обед в полночь; через неделю все это бросил».
Потому что все это сладостное благополучие страшно походит на смерть, и делает человека живым трупом, по меткому высказыванию другого русского классика и гуманиста Льва Толстого. Ибо не этого хочет душа человека, даже если он в футляре.
А чего ж она хочет? Чехов говорит: «во что человек верит, то и есть…» поэтому, добавляет он, «мне хочется, чтобы на том свете я мог думать про эту жизнь так: то были прекрасные видения...» А мне и на этом свете хочется, чтобы плодом моей деловой, литературной и образовательной деятельности, плодом всей моей жизни были прекрасные видения. По возможности воплощенные в реальности 21 века, в которой я, не выбирая времен, вслед за Чеховым, Толстым, Экзюпери и многими другими по мере сил пишу и созидаю.
И в поисках гармоничной жизни для себя и идущих следом, с верой и терпением я повторяю вслед за даосскими мудрецами: «ни в соленом, ни в горьком, ни в сладком нет настоящего вкуса. Настоящий же вкус неощутим. Ни незаурядный ум, ни поразительный талант не есть достоинства настоящего человека. Достоинства настоящего человека неприметны… Когда человек совершенен, он велик и без выдающихся достоинств, ибо в нем действует свободно его изначальная природа».
Изначальная природа писателя – создавать истории, вдохновляющие маленьких и больших людей на следование от рабства к свободе по пути своей изначальной природы. Вот оно, решение на пересечении Чеховской литературной традиции и практичной даосской истины. И когда мы, писатели, научимся писать такие книги, то обретем свое творческое просветление, помогая нынешним и «грядущим поколениям достичь счастья».
А чтобы это произошло, надо самому жить как пишешь, и достигать того, что на самом деле является счастьем, а не мнится им. А то смешно хотеть от тех, кого не вдохновляют музы, следовать за высшими смыслами эпохи, когда этого не делает даже прозревающий их писатель. Не последуем ввысь - будет у нас только овечье счастье, как в известном рассказе Антона Павловича, где старый пастух, всю жизнь искавший клад, не знал, что с этим счастьем делать, коли оно найдется, кроме как «показать всем кузькину мать». А потому так всю жизнь и провел в полусне при отаре овец, которые «тоже думали».
20 век дал такому счастью много примеров, в том числе - среди больших писателей и поэтов, особенно в мучительной России. Не знаю, как вы, а я по заветам великого знатока поэзии перемен и счастья свободы, тайных драм и радостей жизни Чехова хотела бы сделать Россию и мир более счастливыми в 21 веке. Присоединяйтесь - по мере сил и желания не овечьего счастья.
Однако, как метко отвечал на эту идею Чехов: три аршина нужно «не человеку, а трупу. Человеку нужен весь земной шар». Любому человеку. Любому живому, мыслящему, активному, созидательному человеку эпохи глобализации нужен весь земной шар: для поиска своего места на нем и для созидания лучшей жизни.
И обращаться с этим шаром и другими людьми каждый человек должен бережно и с любовью. Ибо счастье - это не личное потребление, а общее созидание. На всех уровнях. В первую очередь – на уровне простого, обычного, «маленького» человека.
Именно поэтому русская литература всегда была «литературой маленького человека», а не жизнеописанием лидера. Повествованием от людях, живущих внутри исторического процесса, а не царящих на его гребне. Писатель действует не пропагандой, а ясностью видения и состраданием – ибо «кто не может взять сердце читателя лаской, тот не возьмет и строгостью».
Может, именно из-за глобальности своего видения и глубокой веры, лучшие русские писатели рассказывали нам истории о людях, сильно переживающих происходящее в каждодневном труде, сквозь боли и радости, путем открытий и ошибок, силами любви и веры…
Может, поэтому так ужасно и разоблачительно выглядят в русской литературе все эти люди в футлярах, чиновники и помещики, скряги и стяжатели, манипуляторы и идеологи, отгородившиеся ради пустого личного покоя от тягот всеобщего пути… И не находящие даже и в этом покое ничего большего тех самых 3 аршин: «чиновник зажил особенной жизнью: на даче высокая труба, зеленые панталоны, синяя жилетка, выкрашенная собака, обед в полночь; через неделю все это бросил».
Потому что все это сладостное благополучие страшно походит на смерть, и делает человека живым трупом, по меткому высказыванию другого русского классика и гуманиста Льва Толстого. Ибо не этого хочет душа человека, даже если он в футляре.
А чего ж она хочет? Чехов говорит: «во что человек верит, то и есть…» поэтому, добавляет он, «мне хочется, чтобы на том свете я мог думать про эту жизнь так: то были прекрасные видения...» А мне и на этом свете хочется, чтобы плодом моей деловой, литературной и образовательной деятельности, плодом всей моей жизни были прекрасные видения. По возможности воплощенные в реальности 21 века, в которой я, не выбирая времен, вслед за Чеховым, Толстым, Экзюпери и многими другими по мере сил пишу и созидаю.
И в поисках гармоничной жизни для себя и идущих следом, с верой и терпением я повторяю вслед за даосскими мудрецами: «ни в соленом, ни в горьком, ни в сладком нет настоящего вкуса. Настоящий же вкус неощутим. Ни незаурядный ум, ни поразительный талант не есть достоинства настоящего человека. Достоинства настоящего человека неприметны… Когда человек совершенен, он велик и без выдающихся достоинств, ибо в нем действует свободно его изначальная природа».
Изначальная природа писателя – создавать истории, вдохновляющие маленьких и больших людей на следование от рабства к свободе по пути своей изначальной природы. Вот оно, решение на пересечении Чеховской литературной традиции и практичной даосской истины. И когда мы, писатели, научимся писать такие книги, то обретем свое творческое просветление, помогая нынешним и «грядущим поколениям достичь счастья».
А чтобы это произошло, надо самому жить как пишешь, и достигать того, что на самом деле является счастьем, а не мнится им. А то смешно хотеть от тех, кого не вдохновляют музы, следовать за высшими смыслами эпохи, когда этого не делает даже прозревающий их писатель. Не последуем ввысь - будет у нас только овечье счастье, как в известном рассказе Антона Павловича, где старый пастух, всю жизнь искавший клад, не знал, что с этим счастьем делать, коли оно найдется, кроме как «показать всем кузькину мать». А потому так всю жизнь и провел в полусне при отаре овец, которые «тоже думали».
20 век дал такому счастью много примеров, в том числе - среди больших писателей и поэтов, особенно в мучительной России. Не знаю, как вы, а я по заветам великого знатока поэзии перемен и счастья свободы, тайных драм и радостей жизни Чехова хотела бы сделать Россию и мир более счастливыми в 21 веке. Присоединяйтесь - по мере сил и желания не овечьего счастья.