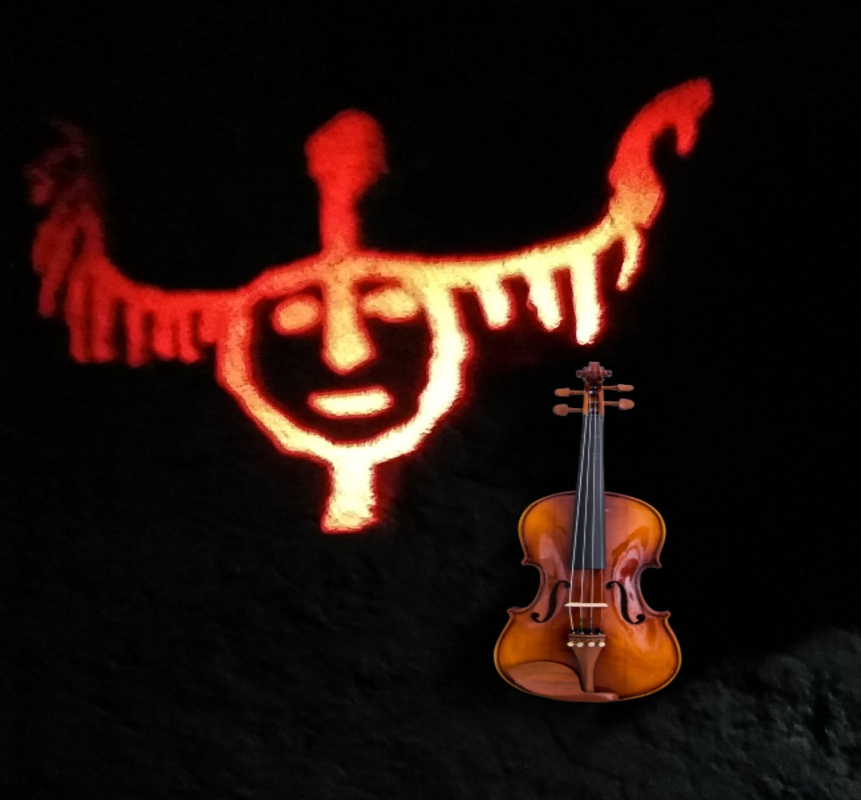Наталья Гарбер, новелла из книги "Джем" (2010)
A glowing demon
October 2021
– We are fucking bloody imperialists! – с жутким акцентом орал рыжий кривоногий Марио, итальянский коммунист лет двадцати пяти, экспрессивно привскакивая в пролетке, несшейся по Санкт-Петербургу летом 1991 года.
Марио вел семинар по микроэкономике в Летней школе, которую Лондонская школа экономики (LSE) привезла в Петергоф. А я прошла конкурс и училась у него. У него и у лектора в белой расхлябанной рубашечке, объяснявшего нам, что в Британии побочный эффект богатства – externality – это когда ваша улица оказывается ярко освещена, потому что у живущего на ней миллиардера юная дочь, которая имеет привычку поздно возвращаться домой. А в России externality – это когда Кировский завод спускает отходы в речку, вниз по течению которой находится рыболовное хозяйство. И хозяйство это загибается. А продукцию Кировского завода все равно никто не покупает, потому что завод не провел marketing’а и производит никому не нужное барахло.
При этом прилагательное «Кировский» лектор в расхлябанной рубашечке произносил с ударением на втором слоге – получалось «КирОвский» – как «ВорОвский» – вроде фамилии с двойным дном. Звучит не как воровскОй, но всем ясно, откуда пошло.
Марио вел семинар по микроэкономике в Летней школе, которую Лондонская школа экономики (LSE) привезла в Петергоф. А я прошла конкурс и училась у него. У него и у лектора в белой расхлябанной рубашечке, объяснявшего нам, что в Британии побочный эффект богатства – externality – это когда ваша улица оказывается ярко освещена, потому что у живущего на ней миллиардера юная дочь, которая имеет привычку поздно возвращаться домой. А в России externality – это когда Кировский завод спускает отходы в речку, вниз по течению которой находится рыболовное хозяйство. И хозяйство это загибается. А продукцию Кировского завода все равно никто не покупает, потому что завод не провел marketing’а и производит никому не нужное барахло.
При этом прилагательное «Кировский» лектор в расхлябанной рубашечке произносил с ударением на втором слоге – получалось «КирОвский» – как «ВорОвский» – вроде фамилии с двойным дном. Звучит не как воровскОй, но всем ясно, откуда пошло.
До сих пор не знаю, понимал ли британский лектор смысл своей филологической шутки, но точно знаю, что в тот день, о котором пишу, у нас был выходной и немного денег. Немного их было у всех, включая Марио, который казался по европейским меркам нищ и гол как сокол. И на его рыжей и страшно довольной роже было яркими веснушками написано, что капитала у него не будет никогда. Потому что Марио слишком интересует сама жизнь, чтоб губить ее обретением богатства и сидением на нем. Поэтому он подхватился с нами из пригорода в Питер, радостно отряхнув с подошв прах микроэкономики, и понесся на электричке «социализироваться» в город.
Социализация – это было новое для нас слово, калька с английского socialization. В их, иностранном, понимании это значило то же, что у нас тусовка. Но со смыслом – типа пообщались, сблизились, и случилась consolidation. В качестве externality, значит. У Марио, с его жутким акцентом, «социализейшен» звучало почти по-русски. Я вообще думаю, что он в Лондонскую школу прорвался от безденежья, чтоб можно было мотаться везде, слегка преподавая и ни о чем не думая. Потому что самая скромная по меркам богатой LSE оплата преподавателя вполне обеспечивала его совершенно спартанские потребности в пище и предельно гедонистические – в развлечениях. А уж в странах третьего мира вроде России из-за дороговизны фунта зарплата Марио делала его fucking bloody imperialist’ом, в которого ему так нравилось играть. И, похоже, LSE не требовала с него смены коммунистических взглядов, вполне довольствуясь преподавательской живостью и способностью решать экономические задачки базового курса.
На Руси, куда Марио занесло в тот день, были голод и неразбериха. И итальянец, как и все мы, явно чувствовал себя, как поселковая шпана, совершающая «налет» на столицу. Однако близкая его тусовочному сердцу идея социализации, как тот самый externality, придавала процессу воскресной тусни значение международной консолидации. Поэтому, вывалившись из Эрмитажа, Марио одновременно с коммунистическим и преподавательским экстазом подался всей душой и капиталами на мою идею прокатиться по Невскому.
Социализация – это было новое для нас слово, калька с английского socialization. В их, иностранном, понимании это значило то же, что у нас тусовка. Но со смыслом – типа пообщались, сблизились, и случилась consolidation. В качестве externality, значит. У Марио, с его жутким акцентом, «социализейшен» звучало почти по-русски. Я вообще думаю, что он в Лондонскую школу прорвался от безденежья, чтоб можно было мотаться везде, слегка преподавая и ни о чем не думая. Потому что самая скромная по меркам богатой LSE оплата преподавателя вполне обеспечивала его совершенно спартанские потребности в пище и предельно гедонистические – в развлечениях. А уж в странах третьего мира вроде России из-за дороговизны фунта зарплата Марио делала его fucking bloody imperialist’ом, в которого ему так нравилось играть. И, похоже, LSE не требовала с него смены коммунистических взглядов, вполне довольствуясь преподавательской живостью и способностью решать экономические задачки базового курса.
На Руси, куда Марио занесло в тот день, были голод и неразбериха. И итальянец, как и все мы, явно чувствовал себя, как поселковая шпана, совершающая «налет» на столицу. Однако близкая его тусовочному сердцу идея социализации, как тот самый externality, придавала процессу воскресной тусни значение международной консолидации. Поэтому, вывалившись из Эрмитажа, Марио одновременно с коммунистическим и преподавательским экстазом подался всей душой и капиталами на мою идею прокатиться по Невскому.
Shamanic music
February 2023
– А как это будет? – спрашивал он, желая оторваться по полной и ничего не упустить из возможностей раздольной русской гонки.
– Какой же русский не любит быстрой езды? – орала я. – Мы сейчас нарушим все правила!
– Ага! – заводился он со всей своей итальянской рыжей страстью. И, как только слегка вздернутый нашей оравой ямщик как мог степенно вырулил с Дворцовой площади на Невский, Марио вскочил и заорал бельканто то самое: We are fucking bloody imperialists!
– We are fucking bloody imperialists! – распоясывался Марио и махал руками, в экстазе вскидывая в воздух невидимый чепчик и одновременно дирижируя нашим итальянским джаз-бандом, нестройно вскрикивающим на ухабах…
Кибитка в ответ покосилась, лошади, выправляя ее, понесли быстрее, Марио повалился на сиденье, а проспект забибикал нам машинами, печенью чуя революционный экстаз от знакомого до боли слова «империалист». Марио продолжал орать про fucking! bloody! imperialists! – и на светофоре на нас вскинулся милиционер – да так и застыл, не понимая, что значат остальные слова, прилагаемые к понятному слову «империалист». Термины «fucking» и «bloody» отечественные менты тогда только осваивали. Черт его знает, что значат эти externality в жизнерадостном вопле явно иностранного гостя, – подумал, видно, мент, и пропустил нас. Тем паче, что пока он соображал, мы уже и так пролетели мимо в своей кибитке удалой. А, ладно, вы аррррр факинг блади империалистс! – заорал он нам вслед, за компанию.
Тогда мы все страшно обрадовались, что можно, и тоже заорали в голос «We are fucking bloody imperialists!» – нестройно, зато уже хором с извозчиком и даже ошалевшими лошадьми.
Мы орали, повозка неслась, а наши карманы гремели мелочью, потому что после оплаты коммерческой пролетки у нас почти ничего не осталось. Ничего, кроме главного. Кроме счастья – ослепительного, бесшабашного счастья нищих свободных головастиков, которые балдеют от того, что могут запускать свои идеи в мир, как бабочек – и наблюдать потом эффект бабочки, ни хрена не имея за душой. Восторг был бешеный. И это было главное, а никакое не externality.
Поэтому, когда, вывалившись из пролетки в конце путешествия, Марио наконец перестал качаться и поймал вертикаль, он поднял указательный палец вверх и сказал, что «соцыализэйшен» случилась. «Верняк!» – подтвердили мы.
– Какой же русский не любит быстрой езды? – орала я. – Мы сейчас нарушим все правила!
– Ага! – заводился он со всей своей итальянской рыжей страстью. И, как только слегка вздернутый нашей оравой ямщик как мог степенно вырулил с Дворцовой площади на Невский, Марио вскочил и заорал бельканто то самое: We are fucking bloody imperialists!
– We are fucking bloody imperialists! – распоясывался Марио и махал руками, в экстазе вскидывая в воздух невидимый чепчик и одновременно дирижируя нашим итальянским джаз-бандом, нестройно вскрикивающим на ухабах…
Кибитка в ответ покосилась, лошади, выправляя ее, понесли быстрее, Марио повалился на сиденье, а проспект забибикал нам машинами, печенью чуя революционный экстаз от знакомого до боли слова «империалист». Марио продолжал орать про fucking! bloody! imperialists! – и на светофоре на нас вскинулся милиционер – да так и застыл, не понимая, что значат остальные слова, прилагаемые к понятному слову «империалист». Термины «fucking» и «bloody» отечественные менты тогда только осваивали. Черт его знает, что значат эти externality в жизнерадостном вопле явно иностранного гостя, – подумал, видно, мент, и пропустил нас. Тем паче, что пока он соображал, мы уже и так пролетели мимо в своей кибитке удалой. А, ладно, вы аррррр факинг блади империалистс! – заорал он нам вслед, за компанию.
Тогда мы все страшно обрадовались, что можно, и тоже заорали в голос «We are fucking bloody imperialists!» – нестройно, зато уже хором с извозчиком и даже ошалевшими лошадьми.
Мы орали, повозка неслась, а наши карманы гремели мелочью, потому что после оплаты коммерческой пролетки у нас почти ничего не осталось. Ничего, кроме главного. Кроме счастья – ослепительного, бесшабашного счастья нищих свободных головастиков, которые балдеют от того, что могут запускать свои идеи в мир, как бабочек – и наблюдать потом эффект бабочки, ни хрена не имея за душой. Восторг был бешеный. И это было главное, а никакое не externality.
Поэтому, когда, вывалившись из пролетки в конце путешествия, Марио наконец перестал качаться и поймал вертикаль, он поднял указательный палец вверх и сказал, что «соцыализэйшен» случилась. «Верняк!» – подтвердили мы.